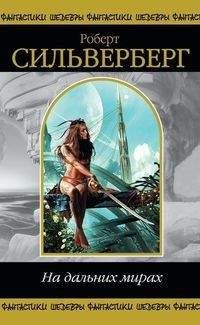— Никогда не прилетишь в Занзибар? — поинтересовался Мортимер. — Как уже пообещал Энтони Гракху?
— Я хотел…
— У нас тоже есть права, — объяснил Захариас. — Мы прошли сквозь настоящий ад, в самом буквальном смысле, чтобы существовать достойно. Ты нарушаешь наше право на покой. Ты нам надоедаешь. Ты нас утомляешь. Ты нас раздражаешь. Мы очень не любим, когда нас раздражают. — Он глянул на Сибиллу.
Та кивнула в ответ.
Рука Захариаса исчезла во внутреннем кармане смокинга, и Мортимер тут же с неожиданной силой дернул Кляйна за запястье. В громоздком кулаке Захариаса блеснула металлическая трубка — вчера Кляйн видел такую же у Гракха.
— Нет! — задохнулся Кляйн. — Я не верю, нет!
Игла вонзилась Кляйну в предплечье.
— Модуль глубокой заморозки уже в пути, — сказал Мортимер, — Будет через пять минут, а то и быстрее.
— А вдруг опоздает? — забеспокоилась Сибилла. — Вдруг наступят необратимые изменения в мозгу?
— Он пока не умер по-настоящему, — напомнил Захариас. — Времени более чем достаточно. Я сам говорил с доктором: очень неглупый китаец, безупречно говорит по-английски. Отнесся с большим пониманием. Его заморозят за пару минут до фактической смерти. Место для модуля зафрахтуем на утреннем рейсе в Дар-эс-Салам. В Соединенные Штаты он попадет через сутки или даже скорее, Сан-Диего мы предупредим. Все будет хорошо, Сибилла!
Хорхе Кляйн лежал щекой на столике. Бар опустел, когда Кляйн закричал, теряя равновесие: полдюжины клиентов исчезли, не желая осквернять выходные присутствием смерти. Испуганные официанты и бармены теснились в коридоре, не зная, что делать. Сердечный приступ, объяснил Захариас. Возможно, инсульт. Где у вас телефон? Маленькую металлическую трубку никто не заметил.
— Почему они не едут? — не успокаивалась Сибилла.
— Я уже слышу сирены, — улыбнулся Захариас.
Сидя за рабочим столом в аэропорту, Дауд Махмуд Барвани смотрел на кряхтящих от натуги грузчиков, поднимавших модуль глубокой заморозки на борт утреннего рейса в Дар-эс-Салам. Теперь они отправят покойника на другой конец земли, в Америку. Там в него вдохнут новую жизнь, и будет мертвец ходить среди людей. Барвани покачал головой. Человек вчера жил, а сегодня умер; и кто знает, чего ждать от мертвых? Кто знает? Мертвым лучше оставаться в могилах, как предполагалось от начала времен. Кто мог предсказать времена, когда мертвые начнут восставать из могил? Уж точно не я. А кто предвидит, что с нами будет через сто лет? Тоже не я. Через сто лет я буду спать вечным сном, подумал Барвани. Буду спать, и мне будет все равно, какие создания населят Землю.
Мы умираем с теми, кто умирает; глядите —
Они уходят и нас уводят с собой.
Мы рождаемся с теми, кто умер: глядите —
Они приходят и нас приводят с собой.
Т. С. Элиот. Литтл-Гиддинг Перевод В. Топорова
В первое утро он не видел никого, кроме персонала Дома воскрешения. Его обмыли, накормили и помогли осторожно походить по комнате. К нему не обращались, он не пытался заговорить: слова казались ненужными. Новые ощущения требовали привычки: механизм тела работал тише и ровнее, чем когда-либо. Ни прибавить, ни убавить. Будто всю жизнь носил одежду с чужого плеча, а сегодня впервые попал в руки хорошего портного. Только зрительные образы, отличавшиеся сверхъестественной четкостью, были поначалу окружены малоприметными радужными контурами, но и те исчезли к концу дня.
На второй день его навестил отец-проводник «ледяного города» Сан-Диего: вовсе не грозный патриарх, какого он себе представлял, но компетентный менеджер, после сердечного приветствия рассказавший о знаниях и умениях, без которых нельзя покидать «ледяной город». На вопрос Кляйна о сегодняшнем дне отец-проводник ответил: семнадцатое июня тысяча девятьсот девяносто третьего года. Выходит, он спал четыре недели.
Наутро третьего дня к нему приходят гости: Сибилла, Нерита, Захариас, Мортимер и Гракх. В лучах солнца, пронизывающих узкие окна, они стоят полукругом в ногах его кровати, сияющие снаружи и изнутри, как полубоги, как ангелы. Теперь и он стал одним из них. Торжественно и официально его обнимают Гракх, Нерита и Мортимер. Захариас, подаривший ему смерть, с улыбкой наклоняется над кроватью. Кляйн улыбается в ответ, и Захариас заключает его в объятия. Приходит очередь Сибиллы: она пристраивает свою ладонь между ладоней Кляйна; он притягивает ее поближе; она легко целует Кляйна в щеку, их губы соприкасаются, и Кляйн обнимает ее за плечи.
— Здравствуй, — шепчет Сибилла.
— Здравствуй, — отвечает Кляйн.
Его спрашивают о самочувствии: быстро ли восстанавливаются силы, встает ли он уже с постели и когда придет время обсушить крылышки. Разговор ведется в любимой манере мертвецов: мысли не договариваются, а многие слова опускаются, — но пока вполсилы, чтобы Кляйну не было трудно. Через пять минут ему кажется, что он освоился.
— Я, наверное, был для вас тяжким бременем, — замечает он, стараясь не говорить лишнего.
— Да, — соглашается Захариас. — Но это в прошлом.
— Мы тебя прощаем, — кивает Мортимер.
— Мы приветствуем тебя среди нас! — объявляет Сибилла.
Дальнейший разговор касается планов на ближайшие месяцы. Работа Сибиллы на Занзибаре почти закончена; надето она собирается в Сион — привести в порядок диссертацию. Мортимер и Нерита хотят в Мексику, посмотреть на древние храмы и пирамиды. Захариаса ждет дорога в Огайо, к любимым курганам. Осенью все соберутся в Сионе — обсудить зимние увеселения: тур по Египту, например, или посещение Мачу-Пикчу в Перу. Руины и раскопки им в радость: где больше потрудилась смерть, там мертвецы счастливее. Постепенно они возбуждаются, лица краснеют; слова льются непрерывным потоком, речь превращается в болтовню. Мы не будем сидеть на месте! Зимбабве, Паленке, Ангкор, Кносс, Ушмаль, Ниневия, Мохенджо-Даро. Жестов, улыбок, взглядов и даже слов им уже не хватает. Их движения смазываются, реальность становится сомнительной. Для Кляйна они уподобляются марионеткам, дергающимся на грубо намалеванной сцене; жужжащим насекомым вроде ос, пчел или москитов. Разве не сливается в жужжание разговор о путешествиях, фестивалях, Вавилоне, Мегиддо и Массаде? Он их больше не слышит, он ушел от них на другую волну, он лежит, улыбаясь, глядя в пространство и отпустив разум на волю. Почему они его больше не интересуют? Все понятно: происходящее — знак его окончательного освобождения. Старые цепи сегодня упали. Присоединится ли он к ним? С какой стати? Может, он отправится в путешествие вместе с ними, а может, нет, повинуясь капризу. Скорее всего, нет. Почти наверняка нет. Ему не нужна компания. У него собственные интересы. Он больше не будет следовать повсюду за Сибиллой. У него нет потребности, нет желания, ему не нужно ничего искать. Для чего ему становиться одним из них — странником без корней и моральных устоев, призраком, облеченным в плоть? Почему он должен принимать обычаи и ценности тех, кто предал его смерти бесстрастно, как прихлопывают насекомое, просто потому, что он надоел и раздражает? Негодования или ненависти он не чувствует, но его выбор — быть самому по себе, отдельно. Пусть они порхают от одной руины к другой, пусть гоняются за смертью с континента на континент. Он пойдет своей дорогой. Сейчас, когда он переступил границу миров, Сибилла больше не имеет для него значения.