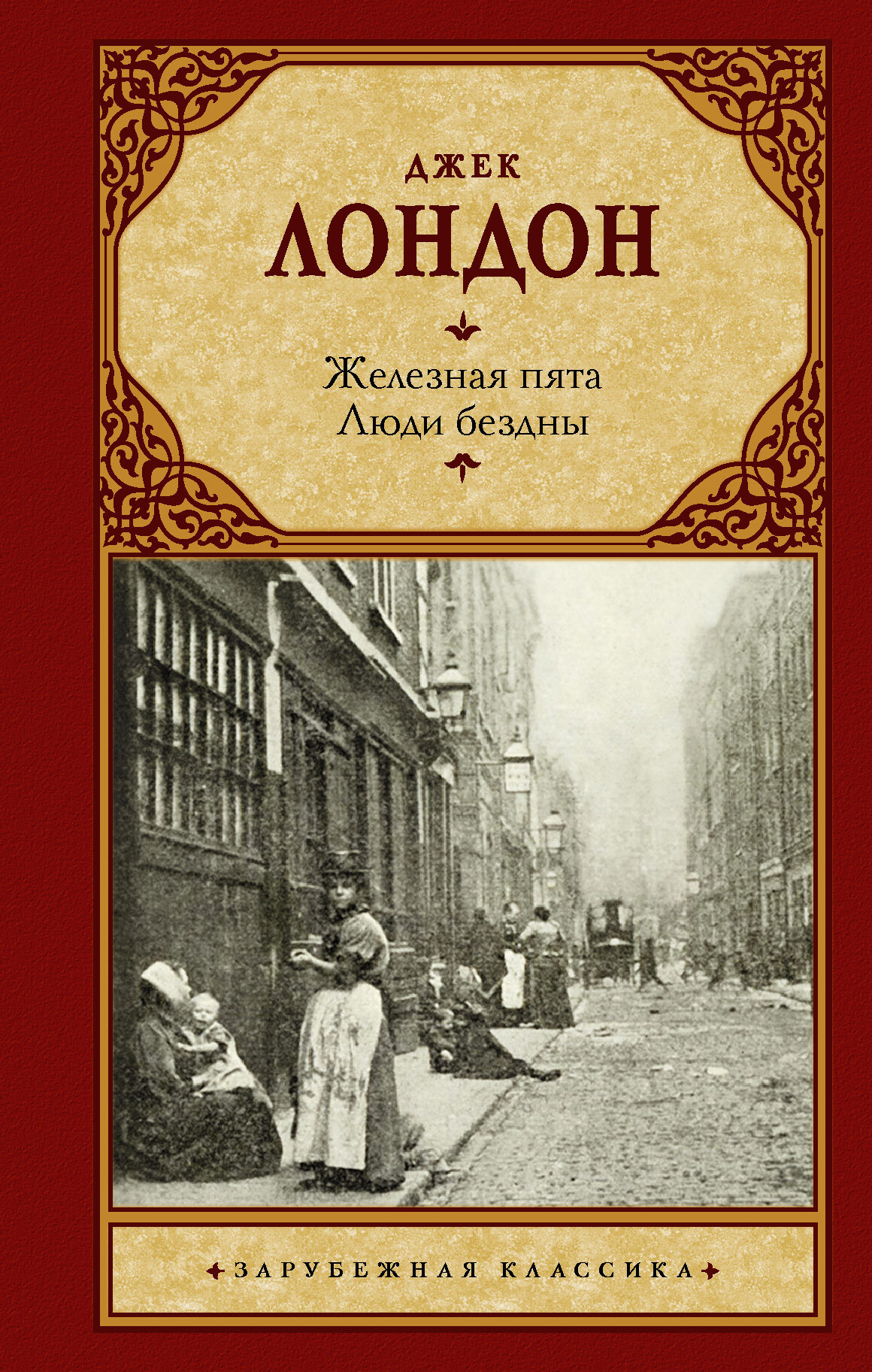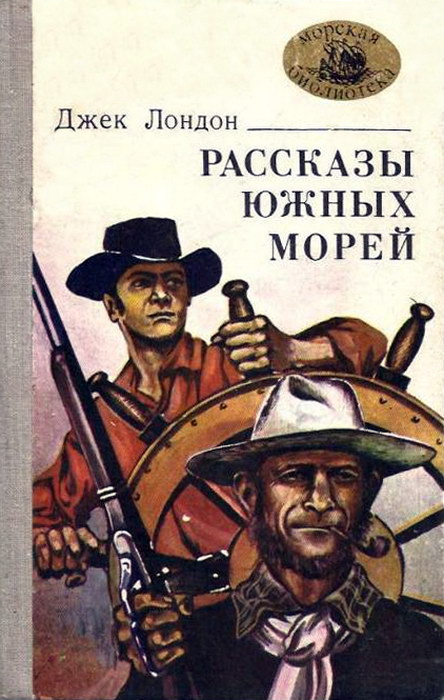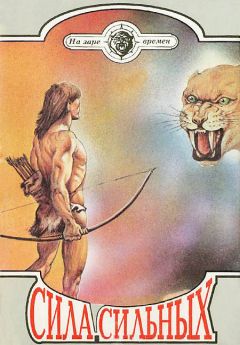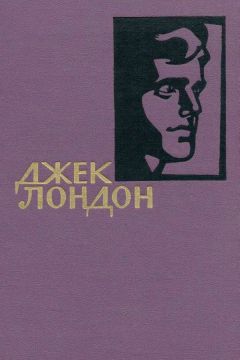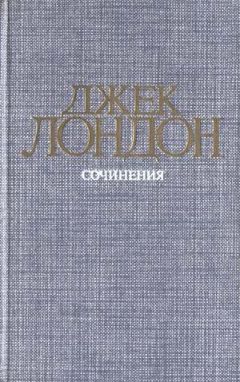другую пошлую забаву этих гнусных паразитов, этих архискотов.
Глава VII
Видение епископа
«С нашим епископом просто сладу не стало, – писал мне Эрнест. – Он витает в облаках. Нынче вечером он начинает свой поход за восстановление справедливости в нашем злополучном мире. Он принесет людям благую весть. Все это епископ доложил мне сам, но я не в силах его удержать. Он председательствует на съезде ИПГ [53] и собирается вместо вступительного слова обратиться к съезду с воззванием.
Не хочешь ли послушать его вместе со мной? Беднягу ожидает жестокий провал. Представляю, каким это будет ударом для тебя и для него, но тебе это послужит превосходным уроком. Ты ведь знаешь, голубка, как я горжусь твоей любовью. Я хочу, чтобы ты ценила все, что есть во мне хорошего, а потому не удивляйся моему желанию рассеять у тебя малейшее облачко сомнения. Гордость моя требует, чтобы ты поняла, как правильны и разумны мои взгляды. Тебе известна их суровость. Но бессилие прекраснодушного епископа, быть может, покажет тебе всю неизбежность такой суровости. А потому едем со мной сегодня вечером. Мы переживем горькие минуты, но я чувствую, что они нас еще больше сблизят».
Съезд ИПГ происходил на сей раз в Сан-Франциско [54]. На повестке дня стоял вопрос об упадке морали в современном обществе и мерах борьбы с этим злом. Председательствовал епископ Морхауз. Видно было, что он волнуется, – я на расстоянии чувствовала, как напряжены у него нервы. Рядом с ним в президиуме сидели: епископ Диккинсон, профессор Г. Г. Джонс, возглавлявший кафедру этических учений на философском факультете Калифорнийского университета, миссис У. У. Херд, видная деятельница в области общественного призрения, Филипп Уорд, известный филантроп, и еще несколько менее видных деятелей из той же сферы морального воспитания и благотворительности. Епископ Морхауз встал и начал без предисловий:
– Как-то я проезжал по городу в своей карете. Дело было вечером, я рассеянно наблюдал в окно привычные картины городской жизни, как вдруг глаза мои отверзлись – и действительность предстала предо мной во всей своей наготе. Сначала я закрыл лицо руками, чтобы не видеть всех этих ужасов, и тогда во тьме предо мной встал вопрос: что же делать? Что делать? Потом возник другой вопрос: что сделал бы Учитель на моем месте? И великий свет пролился вокруг, и долг мой открылся мне словно в ярком сиянии солнца, как открылся он Савлу на пути его в Дамаск.
Я приказал остановить лошадей, вышел на тротуар и, обратившись к двум уличным женщинам, убедил их занять место в карете рядом со мной. Если то, чему учил нас Иисус, – истина, эти несчастные были мне сестрами, и только моя преданная любовь могла очистить их.
Я живу в одном из лучших кварталов Сан-Франциско. Мой дом оценен в сто тысяч долларов, а обстановка, книги и картины стоят и того больше. Это огромный особняк, вернее – дворец; целый штат слуг заботится о нем. До сих пор я не знал, в чем истинное назначение такого дворца, и думал, что мне и подобает жить в нем. Теперь я знаю. Я взял к себе этих женщин и приютил их. Я намерен все комнаты в своем дворце заселить такими же женщинами, моими сестрами.
Весь зал насторожился, у сидевших в президиуме лица выражали ужас и смятение. Епископ Диккинсон встал и демонстративно покинул собрание, но епископ Морхауз, поглощенный своим видением, продолжал словно в каком-то забытьи:
– О, сестры и братья, в этом вижу я единственный выход. Я не знал, зачем нужны кареты, а теперь знаю: для того, чтобы перевозить больных, немощных и престарелых; для того, чтобы оказывать почет тем, в ком угасло даже естественное чувство стыда.
Я не знал, зачем нужны дворцы, а теперь нашел, что с ними делать. Дворцы, принадлежащие церкви, должны быть превращены в больницы и убежища для тех, кто без сил свалился на краю дороги и погибает.
Епископ умолк, по-видимому, не справляясь со своими мыслями и силясь подыскать для них простые, выразительные слова.
– Не мне, дорогие братья, учить вас праведной жизни, – снова начал он. – Я слишком долго коснел во лжи и лицемерии, чтобы советовать другим. Но принятое мною решение касательно тех женщин, сестер моих, показывает, что всякий из нас может вступить на праведный путь. Для тех, кто верит в Иисуса и его святое Евангелие, не может быть иного чувства к ближнему, кроме чувства любви. Только любовь сильнее греха, сильнее смерти. А потому я взываю к тем из вас, кто богат: делайте то же, что делаю я. Возьмите к себе в дом вора и обращайтесь с ним как с братом; приютите у себя блудницу и назовите ее сестрой, и тогда в Сан-Франциско минует надобность в суде и полиции. Тюрьмы будут обращены в больницы, и вместе с преступлением исчезнет и преступник.
Но не только деньги – надо отдать ближним и самого себя. Будем же во всем следовать примеру Христа – вот в чем заключается ныне послание церкви. Мы отступились от заветов Учителя. Мы убиваем душу, потворствуя плоти. На место Христа мы поставили маммону. Я захватил с собой стихотворение, где все это прекрасно сказано. Разрешите прочитать его. Оно написано великим грешником, который, однако, много видел и понимал [55]. И не думайте, что он упрекает здесь только католическую церковь. Нет, он бичует все церкви, клеймит роскошь и хвастливое великолепие всех церквей, что сбились с истинного пути, указанного нам Учителем, и отгородились от овец его. Слушайте же:
Орган гремел. Все пали ниц, и жег
Сердца людей благоговейный страх, —
То плыл по храму на людских плечах
Первосвященник Рима, словно Бог.
Как жрец – в одеждах пены волн белей,
Как властелин – в сиянье трех корон
И в пурпуре, – свой путь направил он
К святилищу – надменный царь царей.
И вихрь сквозь тьму веков меня унес
К тому, кто у пустынних вод бродил,
Не находя пристанища для сна…
«Птенцу – гнездо, нора лисе дана, —
Лишь я, лишь я один бреду без сил
И пью вино, соленое от слез» [56].
Слушатели волновались, но не потому, что речь епископа встретила в них сочувственный отклик, однако епископ, не замечая этого, продолжал:
– И я говорю тем из вас, кто богат, а также и всем прочим богатым