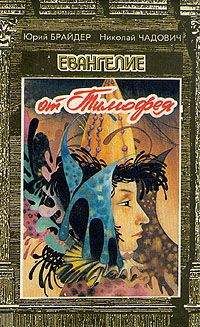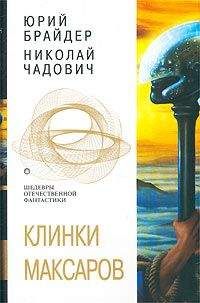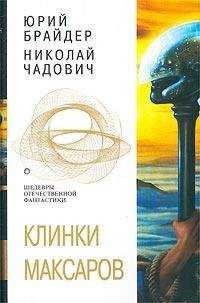Яган идет вымаливать прощение. Головастик не может жить без свадеб и поминок. Шатуну абсолютно безразлично, куда идти, — он изгой. А вот куда, спрашивается, иду я? Где сейчас мой дом? Где моя родная планета?
На Вершени бывают две поры года, причем ни на средней температуре воздуха, ни на соотношении дневных и ночных часов это никак не сказывается.
Голодное и скучное Сухотье длится примерно полтораста суток. В самом его начале сосуды занебников пересыхают, движение соков прекращается, и вся вскормленная этими соками флора мертвеет. Многие виды животных впадают в спячку, те же, кто остался бодрствовать, вынуждены промышлять беспощадным разбоем. Жизнь замирает даже в пышных антиподных лесах, покрывающих нижнюю, обращенную к земле поверхность ветвяков. Люди существуют за счет заранее заготовленных запасов пищи и охоты на случайную дичь. До нового урожая доживает едва ли половина из них.
Мочило почти наполовину короче Сухотья, но и этого времени вполне достаточно, чтобы вся природа бурно расцвела и дала обильные плоды. Напор сока быстро достигает максимальной силы. Обычные для Вершени туманы превращаются в непроницаемую завесу, которую не в состоянии рассеять даже самый сильный ветер. Лишь радуги, сияющие в серой мути, не дают путнику сбиться с дороги. Каждую ночь антиподные леса покрываются жгучей, как муравьиная кислота, росой. В каждой норе, в каждом кустике, в каждой луже кипит жизнь. Обожравшиеся кротодавы становятся мирными, как овечки. Даже беспощадные и ненасытные Фениксы довольствуются только сердцем и печенью своих жертв.
О причинах смены сезонов ни Яган, ни Головастик ничего определенного сказать не могут. Об астрономии этот народ имеет такое же представление, как эскимосы о поливном земледелии. Мироздание их ограничено рамками реального бытия, и никакие необъяснимые природные явления не позволяют эти рамки расширить. Вершень — это жизнь. Прорва — смерть. Иззыбье вещь малоприятная, но без него не обойтись. Больше во вселенной ничего нет, да и быть не может. Звезды здесь никогда не наблюдаются, а наступление света и тьмы никоим образом не связывается с движением невидимого светила.
Однако кое-какие знания и элементарный здравый смысл подсказывают мне, что причиной годовых изменений является, в первую очередь, космический фактор. Одних нагнетающих сил корневого давления и присасывающих сил транспирации вряд ли хватило бы на то, чтобы поднять столь огромную массу воды на такую высоту. Точно так же, как на моей родной планете океанские приливы зависят от притяжения Луны и Солнца, так и здесь какое-то достаточно массивное небесное тело периодически превращает ксилему занебников в мощнейший насос.
Путешествие в недрах занебника в принципе возможно в любую пору года. Но есть, конечно, и кое-какие нюансы. В Сухотье главную опасность представляют кротодавы. В Мочило стенки сосудов нередко лопаются, и сок, под немалым давлением врывающийся в лабиринт ходов, губит все живое.
Мы начали свой путь на переломе сезонов, когда напор сока еще не иссяк, а кротодавы уже успели оголодать.
Коридор, прогрызенный в толще огромного дерева бесчисленными поколениями кротов, а потом расширенный и обустроенный людьми, полого поднимался вверх. В наиболее крутых местах были вырублены ступенчатые дорожки. Единственное неудобство — кромешная темнота — с лихвой компенсировалось опытом и интуицией Шатуна, тем более, что на особо сложных, по его мнению, участках пути: в обширных, как карстовые пещеры, маточных камерах термитов и в запутанных многоярусных разветвлениях — он все же зажигал факел.
Идти все время в гору занятие не из легких (особенно отвыкшему от долгой ходьбы колоднику), и когда мы, наконец, разместились на ночлег в неглубоком, но удобном для обороны тупичке, я твердо решил, что завтра даже не стронусь с этого места — пусть делают со мной, что хотят.
Тупорылый ласковый зверек слопал кусок черствой лепешки и мирно уснул на коленях Головастика. Шатун, не снимая ножей, улегся поперек входа. Яган занялся инвентаризацией наших припасов.
— Долго нам еще идти? — осведомился я у Шатуна.
— Если ничего не случится, завтра доберемся до первого ветвяка. Дальше третьего я обычно не поднимался. Там ходов мало, и в каждом застава. Если надо еще выше, на четвертый или пятый ветвяк, лучше идти крутопутьем.
— Разве на крутопутье нет застав? — удивился Яган.
— Эти можно и обойти. Ничего сложного.
— Сколько же раз, интересно, ты ходил крутопутьем?
— Не считал. Много.
— И никогда не попадался?
— Попадался.
— Удирал, значит?
— Случалось, удирал. А случалось, служивые удирали.
— Да, трудно тебе у нас будет. Врагов ты много на Вершени нажил. Придется за тебя словечко замолвить.
— Ты сначала за себя замолви. А обо мне не беспокойся. На Вершени есть места, куда служивые никогда не сунутся.
Продолжения разговора не последовало: Яган уже спал, положив под голову мешок с провизией.
Прежде чем покинуть место ночевки, Шатун тщательно уничтожил все следы нашего пребывания здесь. Вопреки ожиданиям, ноги мои сгибались и разгибались вполне прилично. Коридор постепенно становился все круче и постоянно забирал вправо. Мы взбирались как бы по огромной спирали. Шатун уже не гасил факел: по его словам, в эти места нередко наведывались служивые. И хотя постоянных застав они тут не держали, зато свободно могли оставить какой-нибудь сюрприз — ловчую яму, петлю-удавку, ядовитую колючку. Гладкие, словно отполированные стены тоннеля были испещрены какими-то непонятными знаками, пятнами копоти, примитивными, но предельно достоверными рисунками. Попадались и грозные предупреждения: насаженные на колья высохшие головы, опутанные лианой-змеевкой скелеты.
Время от времени Шатун, как заправский гид, давал нам краткие пояснения: «Кривая развилка. Если повернуть влево, попадешь в Окаянный лабиринт… Тройня. Каким ходом ни пойдешь, все равно окажешься в Гиблой яме… Безодница. Ее надо обходить только слева. Здесь когда-то пропал мой брат… Кружель. Тут меня в первый раз ранили… Погребище. Однажды нас там ловко прижали служивые. Десять дней пришлось новый ход прорубать. Еле спаслись… Горелая лестница…»
Иногда на нашем пути попадались массивные наплывы смолы, отмечавшие те места, где когда-то в тоннель прорывался сок. Стоило только приложить ухо к этой куда более твердой, чем стекло, янтарного цвета пробке, как слышался глухой могучий звук, похожий на рокот далекого водопада, — сосуды занебника гнали вверх кубометры жидкости.
Проходили мы и через огромные, вырубленные в древесине залы. Вершины многогранных колонн терялись во мраке. Между колонн торчали изуродованные, беспощадно изрубленные топорами фигуры не то богов, не то вождей давно исчезнувшего народа. Был момент, когда мне показалось, будто одна из наиболее сохранившихся фигур изображает ни что иное, как нашего мрачного знакомца — Феникса. Шатун о происхождении этих заброшенных храмов ничего не знал, Яган отмалчивался, Головастик выражался смутно и осторожно. Жили, дескать, здесь люди в стародавние времена, а куда девались — неизвестно. Только поминать их всуе нельзя — плохая примета. Говорят, с Незримыми дружили, а еще говорят — наоборот, враждовали с ними. Может, их эти самые Незримые и вывели. Но лучше про то молчать.