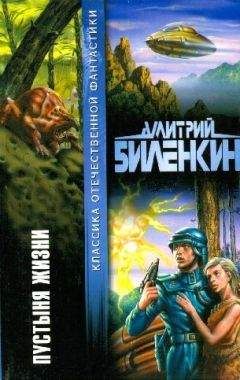Смотреть на человека в таком состоянии тяжеловато, даже страшно. Я обошел неподвижное тело Алексея и, стараясь не замечать на висках черных присосков, склонился над лентой. В ней почти все было для меня тарабарщиной. Но я и не пытался вникнуть в смысл, мне важно было узнать, скоро ли Алексей выйдет из прострации. Судя по длине ленты, ждать оставалось недолго, впрочем, тут легко было ошибиться.
Я тихонько прошел на кухню. Медитация требовала таких сил, что за время сеанса человек запросто мог потерять килограмма два веса, и тогда еды требовалось ему не меньше, чем удаву. Его должен ждать накрытый стол и дымящийся кофе и витакрин, по крайней мере все это должно быть наготове. Конечно, он ни о чем таком не побеспокоился!
“Вот и хорошо, — подумал я. — Накормлю, а там посмотрим. Загоню отсыпаться или… Так и так выходит, что я не зря пришел”.
Не торопясь, я поколдовал над программой, припомнил все любимые Алексеем блюда, особо налег на тонизаторы, на всякий случай заказал вино, проверил, достаточно ли в аппарате белковой массы. К счастью, ее оказалось достаточно. Синтезатор принял программу, весело замигал огоньками, больше мне здесь делать было нечего. Я вернулся к Алексею.
Все то же, никаких изменений. Судя по всему, Алексей вошел в глубочайшее, какое только возможно, сосредоточение. Со сколькими он сейчас сомыслил одновременно? С десятками, сотнями, тысячами таких же, как он, теоретиков? Или он вышел на связь со всем человечеством сразу?
Нет, это маловероятно, человечеству сейчас не до абстракций, хотя от них, может быть, зависит все. Да и я что‑нибудь чувствовал бы, ведь я тоже часть человечества. Исключено, исключено! Не тот случай, чтобы решать все сообща; квантовая хронодинамика не та область, где у таких, как я, может блеснуть идея. Вот так, уважаемый “гомо сапиенс” образца третьего тысячелетия: здесь от тебя пользы не больше, чем от пещерной девочки, — не тот склад ума, не те интересы, не та Подготовка. Накрыть, что ли, стол или подождать?
По бледному, с пергаментным отливом, лицу Алексея все чаще разливалось удовлетворение, грудь вздымалась, точно он шел в гору, к вспотевшему лбу прилип клок рыжих волос. О чем он думал сейчас, что представлялось ему, чему он радовался? Я, как и всякий, знал, что такое медитация, совместный “мозговой штурм” тысяч, миллионов, а если надо, то и миллиардов людей, меня учили выходить на связь, брать на себя часть нагрузки, я не раз слышал зов — “малого”, “среднего” и даже всеобщего сбора, включался, когда была возможность, но чтобы вот так… Чтобы самому послать вызов, стать центром, как это сделал Алексей, войти в такое сосредоточение -~ нет, от одной этой мысли мне становилось не по себе. Даже подумать об этом было страшно. Шутка ли, войти в резонанс с мыслями стольких людей, подключить к этому сверхразуму еще и машины, да не просто войти, не просто подключить и подключиться, а стать дирижером мозговой бури, управлять ею! Даже частичное погружение в этот транс, вихрь, уж не знаю что, оставило во мне впечатление бездны, куда падаешь, теряя себя, и где взамен находишь что‑то огромное, надчеловеческое, чему и названия нет. Уф! Замечательно, нужно — и все‑таки хочется быть подальше…
Стоять возле Алексея — и то обдавало нервной дрожью. Я отвернулся и стал накрывать на стол. На Алексея я больше не смотрел. Хотя что тут такого? Люди всегда мыслили коллективно, и открытия таких гениев, как Ньютон, Эйнштейн, Пекарев или Риплацони, никогда не были результатом только их идей, они всегда аккумулировали мысль современников и предшественников, замыкали на себя информационное поле планеты, сгущая и доводя его до ослепительной вспышки прозрения. Тот самый эффект сомышления, который разных, внешне, казалось бы, никак не связанных людей одновременно приводил к схожим открытиям, изобретениям и теориям, как это было с Ползуновым и Уаттом, Лобачевским и Бойяйи, Дарвином и Уоллесом, Флобером и Бальзаком (последние, независимо друг от друга, однажды написали удивительно похожие главы — и это в самом что ни на есть индивидуальном виде творчества!). “Фиалки расцветают одновременно” — так говорили об этом раньше. Мы лишь усовершенствовали то, что было. Но с каким результатом! По мнению Фаэты и некоторых других историков, именно это открытие окончательно торпедировало старый мир. Не знаю, не уверен, есть и другие точки зрения. Но, надо полагать, и в этой гипотезе имелась толика правды. Миллиарды людей на всех континентах хотели одного и того же — мира, справедливости и свободы. Когда эти желания, мысли и устремления, прежде разобщенные, одиночно вспыхивающие, благодаря медитации слились и усилились, как свет в кристалле лазера, то, судя по архивным свидетельствам, сознание тех, кто противостоял желаниям человечества, было опалено психическим шоком. Та эпидемия внезапных самоубийств, душевных кризисов, панического бегства от дел, которая затем разразилась, вряд ли была случайностью, уж слишком все совпадало во времени, слишком схожими оказались жертвы. Гнев народов как бы овеществился, и эта сила не промахнулась.
Чашка, которую я только что поставил перед Алексеем, вдруг стронулась и мелко задребезжала о блюдце. Утихла… Снова задребезжала — сильней. Под ногами мягко качнулся пол. Ухватившись за край стола, я воззрился на чашку, словно мог так удержать ее взглядом, а вместе с ней — весь дрогнувший и накренившийся мир.
Замерло, обошлось; не хроноклазм, всего лишь далекий отзвук землетрясения…
Тем не менее еще с секунду я, как загипнотизированный, следил за уже неподвижной чашкой. Затем, распрямившись, с надеждой и тревогой перевел взгляд на мерно ползущую из‑под руки Алексея ленту. Что сулило ее движение? Таился ли в этих черных значках приговор всему? Или, наоборот, они возвещали спасение? Ради пустяков в медитацию не входят. Мелькавшее на лице Алексея удовлетворение означало только одно: найдено интересное решение. Оно одинаково могло означать и победу, и скорый конец света; для теоретика, да еще в состоянии медитации, важна истина, только истина, ничего, кроме истины.
Этому поиску в нем подчинено все, даже эмоции.
Если бы только это! Костлявой маской — вот чем стало лицо Алексея. Он сжигал себя, видимо, иначе было нельзя. Сердце сжималось, но мог ли я вмешаться? Он бы убил меня. Недаром он отключил наручный диагностер, который в случае чего обязательно подал бы сигнал тревоги; отключил, чтобы сюда не прибежали врачи и не прервали сеанс. Другой вопрос, как он это умудрился сделать, ведь диагностер нельзя выключить без того, чтобы в радиусе нескольких километров у всех медиков не поднялся бы переполох. Видимо, Алексею тут пришлось решить кое–какую дополнительную задачу. Или он это сделал давно? Скорей всего, так…