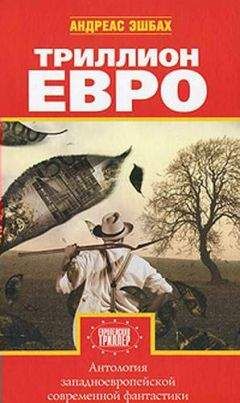Как известно всем, кто хоть в малейшей степени стремится быть в курсе мировых событий, в древнем замке Швинкеншванк обитают двадцать девять призраков средневековых баронов и баронесс. Вели себя эти древние привидения очень даже терпимо. Они, как правило, докучали мне куда меньше, чем крысы, кишмя кишевшие во всех закоулках замка. Когда я только поселился, мне пришлось спать с зажженным фонарем и время от времени колотить палкой вокруг себя, чтобы избежать участи епископа Гатто, которого, как гласит легенда, заживо съели крысы. Позднее во Франкфурте мне сделали по заказу железную клетку, где я мог спать в уюте и полной безопасности. Правда, вначале мне резал слух громкий скрежет зубов, так как настырные крысы грызли железные прутья, пытаясь проникнуть внутрь и съесть меня. Но потом я к этому привык.
Если не считать призраков и крыс, а также время от времени залетающих летучих мышей и сов, я был первым обитателем замка Швинкеншванк за последние три-четыре столетия. Покинув Бонн, где я почерпнул очень много полезного для себя на блестящих и весьма познавательных лекциях знаменитого Калькариуса, герра профессора метафизических наук тамошнего достойного всяческого восхищения университета, я выбрал эти руины как наиболее подходящее место для проведения некоторых психологических экспериментов. Потомственный ландграф фон Топлитц, которому принадлежал замок Швинкеншванк, не выказал ни малейших признаков удивления, когда я посетил его и предложил шесть талеров в месяц за право разместиться в его полуразвалившемся владении. Даже клерк в каком-нибудь отеле на Бродвее вряд ли встретил бы мою просьбу так хладнокровно и принял от меня деньги с такой деловитостью.
– Плату за первый месяц придется внести авансом, – только и произнес он.
– Именно это я собираюсь сделать, мой высокородный потомственный ландграф, – ответил я, отсчитывая ему шесть долларов.
Он положил их в карман и выдал мне расписку на соответствующую сумму. Интересно, а брать плату за проживание со своих призраков он не пробовал?..
Комната, более других пригодная для обитания, находилась в северо-западной башне замка, но ее уже занимала леди Аделаида-Мария, старшая дочь барона фон Шоттена, которую еще в тринадцатом столетии любящий папаша уморил голодом за отказ выйти замуж за одноногого флибустьера из-за реки. Разумеется, я не решился вторгнуться в личную жизнь леди, так что устроился на верхней площадке лестницы в южной башне, где не было никого, кроме сентиментального монаха, который большую часть ночи отсутствовал, да и в другое время не доставлял мне никакого беспокойства.
Тишина и уединение, которыми я наслаждался в замке, позволяют снизить психическую и умственную активность до самой минимальной степени, которая может быть достигнута живым человеком. Святой Петр Алькантрийский, который сорок лет провел в монастырской келье, научился спать не более полутора часов в день и принимать пищу раз в три дня. Я убежден, что в результате такого снижения уровня физиологических процессов его душа также сжалась почти до нуля, став такой же, как у лишенного сознания ребенка. Ибо индивидуальность характеру человека придают тренировки, размышления, конфликты, повседневная деятельность. В моей памяти навсегда запечатлелись мудрые слова профессора Калькариуса:
– В чем заключается тайна связи души с живой плотью? Почему я являюсь Калькариусом, вернее, почему душа, именуемая Калькариус, обитает в данном конкретном организме? (Здесь ученейший профессор шлепнул пухлой рукой свою толстую ляжку). Разве не мог бы на месте меня быть другой, и разве не мог бы другой быть мною? Разграничьте индивидуальное эго и плотское окружение, которые связывают лишь сила привычки и длительность совместного пребывания, и разве мы не сможем тогда утверждать, что эго может быть совсем удалено волевым актом, позволив живому телу принять какое-то другое, неиндивидуализированное эго, более ценное и достойное, чем старое?
Это глубокое утверждение произвело неизгладимое впечатление на мой интеллект. Вполне довольный своим крепким, здоровым и достаточно красивым телом, я испытывал недовольство своей душой, постоянно обнаруживая ее слабость, ее топорность, ее неадекватность, что усиливало недовольство до отвращения. Если бы я и в самом деле сумел выковырнуть этот ущербный алмаз из его прекрасной оправы и заменить его подлинным бриллиантом!.. Ради этого я пошел бы на любые жертвы!
Именно для того, чтобы провести этот такой эксперимент, я и отправился в заточение в замок Швинкеншванк.
Кроме маленького Ганса, сына хозяйки гостиницы, а потом и его сестры, которые трижды в неделю карабкались в гору, доставляя мне хлеб, сыр и белое вино, единственным посетителем за время моего пребывания там был профессор Калькариус собственной персоной. Он дважды приезжал ко мне из Бонна, чтобы воодушевить меня и приободрить.
Во время первого визита ночь застала нас обсуждающими Пифагора и метампсихоз. Мудрый метафизик был грузен и очень близорук.
– О майн готт! Я ни за что не сумею спуститься с горы живым! – в ужасе ломая руки, воскликнул он. – Я наверняка споткнусь и, по всей вероятности, низвергнусь на какую-нибудь острую скалу.
– Вы можете остаться здесь на ночь, профессор, – сказал я. – Спать будете в моей железной клетке. Я бы хотел познакомить вас с моим сожителем, монахом.
– Это весьма субъективно, мой дорогой юный друг, – возразил профессор. – Ваш призрак – это порождение зрительных нервов, и я, как и подобает философу, отнесусь к нему без паники.
Я уложил герра профессора в свою постель и с величайшим трудом втиснулся в железную клетку рядом с ним. По его настоятельной просьбе я оставил фонарь гореть.
– Не потому, что я опасаюсь ваших субъективных призраков, – объяснил он. – Все это просто плод вашего воображения. Но в темноте я могу свалиться с постели и раздавить вас… – а чуть погодя поинтересовался: – Как продвигается ваше преодоление власти индивидуальной души?.. Эй! Что это?
– Это крыса пытается добраться до нас, – пояснил я. – Не волнуйтесь, вы в полной безопасности. А эксперимент проходит удовлетворительно. Я совершенно утратил интерес к окружающему миру. Любовь, благодарность, дружба, забота о благе моем и моих друзей – все это почти совсем исчезло. Надеюсь, в скором времени меня покинет и память, а вместе с нею и мое индивидуальное прошлое.
– Великолепно! – с энтузиазмом воскликнул профессор. – Вы внесете неоценимый вклад в психологическую науку. Вскоре ваша психика станет чистым листом, вакуумом… О милостивый Боже! А это еще что такое?