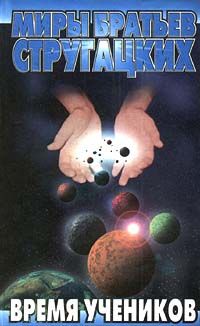— Здравствуйте, дядя Фил! Вы забыли, я не сажаю помидоров.
— А что же ты сажаешь, ласточка моя?
— Только цветы, дядя Фил.
— Цветы — дело хорошее, но пустое. То ли, скажем, огурцы. Вот славный овощ. Но они у меня уже второй год какие-то черные и совсем горькие. А помидоры просто посохли. Тяжело стало, Леночка, воду носить. Старею. Думаю вот арбузы посадить.
— Арбузы?! — удивилась Селена. — А разве им мало воды нужно?
— Да мне друг Паладин с Северной окраины обещал специальный сорт принести, говорит, вызревают практически без полива, на одной росе. А вот посмотрите, ты тоже посмотри, мил человек, — обратился он к Виктору, держа в руках клубок ярко-желтых корней, похожих на сплетенные пальцы. Один округлый корешок нахально вытарчивался в сторону, отчего весь корнеплод напоминал кулак, сложенный в форме кукиша. — Посмотри, как вот эта дрянь лезет. Поливай не поливай ее — лезет, окаянная, я уж притомился выпалывать.
— Зачем же ее выпалывать, дядя Фил, это же ручная репа.
— А ну ее к бесам, эту репу. Ручные бывают гранаты и животные. А репы у нас такой отродясь не было. Дурная она.
— Да нет, дядя Фил, — не согласилась Селена, — она вкусная.
— Ну ее к аллаху, дурная она, ей-Богу дурная…
Они уже пошли дальше, а старик все продолжал ворчать.
Виктор вспомнил ручную репу. Ее выращивали бедуины еще в те годы, когда он здесь служил. Тогда считалось, что диковинку завезли из Африки. А уже много лет спустя кто-то рассказал ему, что ни в Африке, ни в какой другой части света ничего подобного не встречается. Ручная репа была местным эндемиком и, очевидно, мутантом. От одного стебля уходило в почву несколько длинных желтых корней — этакая помесь хрена с морковкой. А когда овощ выдергивали по осени, полагалось сжимать его рукою посередине, и корни прямо на глазах, словно живые, причудливо скручивались, образуя каждый раз новую фантастическую фигуру. Конечно, в ручную репу любили играть дети. Правда, особо крупные экземпляры корнеплодов иногда больно сдавливали пальцы, и по городу даже ходили слухи о гигантской ручной репе, задушившей двухлетнего мальчика. Слухам Виктор не верил. Но ворчание добродушного симпатичного дяди Фила оставило в душе неприятный осадок.
А дача губернатора оказалась каменным особняком явно довоенной постройки, принадлежавшим тогда какому-нибудь министру или автору бессмертных эпопей о трудовом народе. Участок был огромный, с соснами, орешником и жасмином, в меру заросший, в меру солнечный, масса цветов, дорожки, посыпанные желтым песком, чуть в сторону от дома за фантастическим буйством тропической зелени посверкивало зеркало пруда или, может быть, бассейна, а перед парадным крыльцом нагло бил мощной струей настоящий фонтан. Город давно забыло таком изобилии жидкости, и в какой-то момент Виктор почувствовал себя героем Сент-Экзюпери — бедуином (или мавром, но это, кажется, одно и то же), доставленным из Сахары во Францию, который, простояв уже добрый час у водопада в Альпах, отказывается уходить, пока не кончится эта вода.
«Бедуином, — повторил он невольно. — Почувствовать себя бедуином». Да, в этом городе такие слова звучали совершенно особенно.
— Селена, — спросил он уже на ступеньках перед входом, — за что вы так не любите бедуинов?
— А вот об этом я и хотела поговорить, — охотно откликнулась Селена. — Проходи, пожалуйста.
— Папа дома? — осторожно поинтересовался Виктор на всякий случай.
— Папа живет не здесь. В пяти километрах к юго-востоку у них с мамой свой новый дом, а это — моя дача. Мы будем здесь совершенно одни, — добавила она заговорщицким тоном. — И никто-никто не помешает мне рассказать, за что я так не люблю бедуинов.
Но разговор начался совсем с другого.
Ослепительно белая комната на втором этаже была словно вырубленная во льду пещера. Удивительный материал пушистых мягких кресел походил на январский рассыпчатый снег, кондиционер накачивал в помещение студеный воздух с отчетливым запахом моря, фрукты, вынутые из холодильника, покрылись бусинками росы, а пенистый «дайкири» цвета карибского прибоя ничем не уступал приготовленному Тэдди. И звучала тихая ненавязчивая музыка, будившая сладковато-грустные воспоминания о юности, мечты о далеких странах и о несбыточном. Захотелось выпить просто джину. Можно даже неохлажденного. Но они договорились пить только «дайкири». И он потягивал через соломинку зеленоватый коктейль, курил и смотрел на Селену. Селена была красива. Волшебно красива.
— Ты не куришь? — спросил он. — У меня настоящие, американские.
— Нет, я никакие не курю. Я же все-таки спортсменка. Надо поддерживать форму.
— А как же «дайкири»?
— Это другое дело. Алкоголь при достаточно интенсивных тренировках полностью выводится из организма, если, конечно, пить не каждый день. Никотин — нет. Он накапливается, как все самые гнусные яды. А к тому же необратимое загрязнение легких смолами, не говоря уже о канцерогенах.
Виктор, несколько растерявшийся от этой неожиданной санпросветагитации, чуть было не загасил сигарету, но потом решил, что это будет дешевое позерство, и предпочел отделаться банальной и уже давно несмешной шуткой:
— Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет.
— Я больше люблю другое высказывание по поводу вредных привычек: «Жить вообще вредно. От этого умирают».
— Ну, это уже философия…
Они помолчали, смакуя коктейль и ощущение мягкой прохлады.
— Вот что, Виктор, мне говорили, то есть я знаю, что вы — известный писатель.
Она сделала паузу, споткнувшись об это «вы».
— Прости, я иногда еще буду сбиваться на такое обращение. И потом, по-моему, в этом контексте лучше звучит «вы».
— Сейчас нет известных писателей, — возразил Виктор. — Есть получившие признание раньше, и есть те, которых читают сегодня. Я не отношусь ни к первым, ни ко вторым. Правда, в прежние годы меня считали модным романистом.
— Ну, это вы скромничаете, — улыбнулась Селена. — Вы все-таки были по-настоящему известным, у вас было признание, вас и сегодня многие помнят, и в некоторых кругах ваше имя, я думаю, будет звучать достаточно сильно.
— В некоторых кругах, — подхватил Виктор, — точнее в некоторых ведомствах, мое имя действительно до сих пор действует как красная тряпка на отдельные виды животных. Вот только меня это совсем не радует. Да, было время, было, когда мы, сами того не осознавая, писали для них, не для читателей, а именно для них, заранее представляя себе и смакуя такую картину: вот цензор прочел мою фразу, вот рожа его перекосилась, вот сжался кулак… Теперь нет цензоров. Теперь они борются с нами по-другому. Экономически. И вот одна половина пишущей братии искренне и благородно творит по заявкам трудящихся увлекательную чушь, за которую трудящиеся охотно платят свои честно заработанные деньга, а другая — безумцы вроде меня — сочиняет ни для кого, зато нечто очень умное, но денег за это, разумеется, никто не платит. Я не утомил тебя, девочка, столь долгим пассажем?