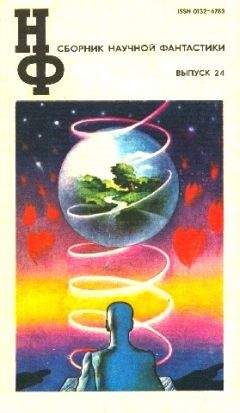Шут ловко извернулся, встал между люком и Анной.
— Тебе туда нельзя, княжна, — сказал он. — Не велено.
— Эй! — раздался снизу зычный голос Кина. — Развяжи меня, скоморох. Веди к князю. Я слово знаю!
— Знакомый голос, — сказала Маг да. — Кто у тебя там?
— Не твое дело, госпожа.
— Раб! — воскликнула она. — Смерд! Как ты смеешь перевить! — Анна не боялась сказать какое-нибудь слово, которого они не знали. Она иностранка и не имела иного образования, кроме домашнего.
И в голосе образованной москвички конца двадцатого века вдруг зазвучали такие великокняжеские интонации, что Жюль, напряженно следивший за происходящим из деревенской комнаты, усмехнулся…
— С дороги! — крикнула Анна. — Посмотрим, что скажет боярин, когда узнает о тв оем своеволии.
И шут сразу сник. Словно ему стало все равно — увидит Магда пленника или нет…
Анна величественно отстранила отрока и спустилась вниз в знакомое ей скопление реторт, горшков, медных тиглей — неведомых предвестников химической науки. Сильно пахло серной кислотой. Кин следил, прислонившись к стене. Анна мигнула ему, Кин нахмурился и проворчал сквозь зубы:
— Еще чего не хватало.
— Так вот ты где! — возмущенно заговорила княжна, глядя на Кина. — Почему связан? Что они с тобой сделали?
— Госпожа, — сообразил Кин. — Я плохого не делал. Я пришел к господину Роману от вас, но меня никто не слушает.
Анна обернулась. Отрок стоял у лестницы, шут — на ступеньках. Оба внимательно слушали.
— Do you speak English? [1]
— A little [2].
Анна вздохнула с облегчением.
— Нам нужно их убедить, — продолжала она по-английски.
— Молодец, — сказал Кин. — Как прикажете, госпожа.
— Развяжи его, — приказала Анна отроку.
— Сейчас, госпожа, — сказал он робко. — Сейчас, но… Господин…
— Господин сделает все, что я велю.
Отрок оглянулся на шута. Тот спустился в подвал, сел за стол.
— Делай, — мрачно сказал он, — господин выполнит все, что она скажет.
— Где ваш возлюбленный? — спросил Кин по-английски.
— Не смейтесь. Я честная девушка. Он с князем. Они обсуждают вопросы обороны.
Кин поднялся, растирая затекшие пальцы.
— Я пошел. Мне надо быть с ним. А вам лучше вернуться.
— Нет, я останусь. Роман просил меня остаться. Я могу помочь вам, когда вы вернетесь.
— В случае опасности вы знаете, что делать?
— Разумеется, — сказала Анна по-русски. — Иди к Роману, береги его. — Она обернулась к отроку. — Проводи моего слугу до выхода. Чтобы его не задержали стражники.
Отрок взглянул на шута. Тот кивнул. Отрок последовал за Кином. Шут сказал:
— Thy will releaseth him from the fetters [3].
Анна опешила.
— Ты понимаешь этот язык?
— Я бывал в разных краях, княжна, — сказал шут. — С моим господином. Мы, рабы, скрываем свои знания…
«Не может быть, — подумала Анна, — он не мог все понять. Ведь семь веков прошло, язык так изменился».
— Здесь вы добываете золото? — спросила Анна.
Печь совсем прогорела, лишь под пеплом тлели красные угольки.
— Мой господин, — сказал шут, — делает угодное богу.
— Верю, верю, — сказала Анна. — А правда, что он изобрел книгопечатание?
— Не ведаю такого слова, госпожа, — сказал шут. Он подошел к тлеющим углям и протянул к ним свои большие руки.
— Ты помогаешь господину?
— Когда он позволяет мне. А зачем тебе и твоему человеку мой господин? — спросил карлик.
— Я не поняла тебя.
— Вы говорили на языке, похожем на язык саксов. Твой человек побежал за моим господином.
— Ты боишься за него?
— Я боюсь страха моего господина. И его любви к тебе. Он забывает о других. Это приведет к смерти.
— Чьей смерти?
— Сегодня смерть ждет всех. Когда хватаешься за одно, забываешь о главном.
— Что же главное? — Анна хотела прибавить: раб или дурак, но поняла, что не хочет играть больше в эту игру.
— Главное? — Шут повернулся к ней, единственный его глаз был смертельно печален. — Ты чужая. Ты не можешь понять.
— Я постараюсь.
— Сейчас божьи дворяне пойдут на приступ. И никому пощады не будет. Но коли я догадался верно, если боярин Роман ходил наружу, чтобы договориться с божьими дворянами, как спастись и спасти все это… коли так, главное пропадет.
— Но ведь остается наука, остается его великое открытие.
— Ты, княжна, из знатных. Ты никогда не голодала, тебя не пороли, не жгли, не рубили, не измывались… тебе ничего не грозит. Тебя никто не тронет — ни здесь, ни в тереме. А вот все эти люди, те, что спят или не спят, тревожатся, пьют, едят, плачут на улицах, — их убьют. И это неважно моему господину. И это неважно тебе — их мука до вас не долетит.
Карлик, освещенный красным светом углей, был страшен.
Вот такими были первые проповедники средневековой справедливости, такие шли на костры. Люди, которые поняли, что каждый достоин жизни, и были бессильны.
— Ты не прав, шут.
— Нет, прав. Даже сейчас в твоих добрых глазах и в твоих добрых речах нет правды. Тебе неведомо, есть ли у меня имя, есть ли у меня слово и честь. Шут, дурак…
— Как тебя зовут?
— Акиплеша — это тоже кличка. Я забыл свое имя. Но я не раб! Я сделаю то, чего не хочет сделать Роман.
— Что ты можешь сделать?
— Я уйду подземным ходом, я найду в лесу литвинов, я скажу им, чтобы спешили.
— Ты не успеешь, Акиплеша, — сказала Анна.
— Тогда я разрушу все это… все!
— Но это жизнь твоего господина, это дело его жизни.
— Он околдовал тебя, княжна! Кому нужно его дело, мое дело, твое дело, коль изойдут кровью отроки и младенцы, жены и мужи — все дети христовы? Но я не могу разрушать…
Шут вскарабкался на стул, сел, ноги на весу, уронил голову на руки, словно заснул. Анна молчала, смотрела на широкую горбатую спину шута. Не поднимая головы, глухо, он спросил:
— Кто ты, княжна? Ты не та, за кого выдаешь себя.
— Разве это так важно, Акиплеша?
— Рассвет близко. Я знаю людей. Дураки наблюдательны. Мой господин нас предаст, и я не могу остановить это.
— Скажи, Акиплеша, твой господин в самом деле такой великий чародей? Выше королей церкви и земных князей?
— Слава его будет велика, — сказал шут. — И короли придут к нему на поклон. Иначе я не связал бы с ним мою жизнь.
— А что ты мог сделать?
— Я мог убежать. Я мог уйти к другому хозяину.
— Ты так в самом деле думал?