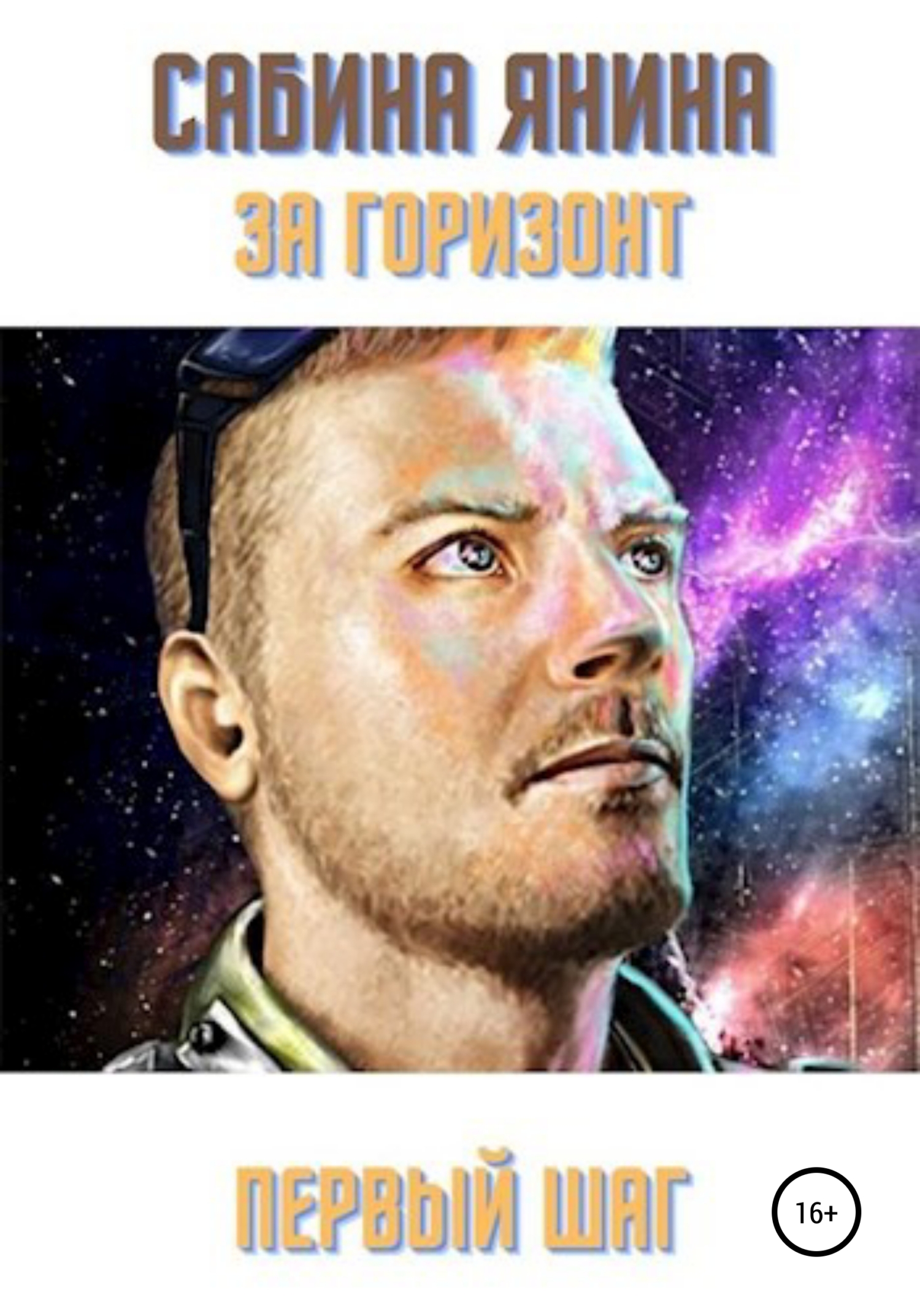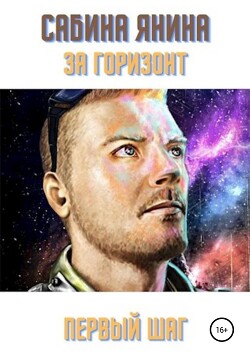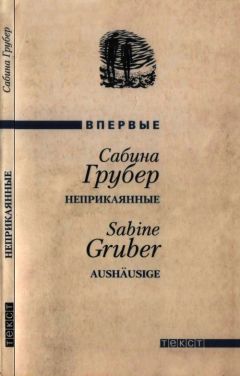себя руки и договорил, – был бы вам признателен, если бы у меня был помощник по хозяйству. А я бы смог полностью посвятить своё время научной работе.
– Ясно, – проговорил Окимий. Он сидел и изучающе смотрел на меня, – значит помощник по хозяйству?
– Да! Если это возможно, то я бы мог заказать себе робота-помощника. Средства у меня есть, вот только доступа к глобальному интернету нет.
– К сожалению, роботы запрещены в монастыре и в прилегающих к нему поселениях. А выделить человека, который помогал бы вам по хозяйству, – он насмешливо развёл руками, – сами понимаете, лето на дворе, каждая пара рук на вес золота. Мы же тут живём тем, что сами вырастим да заготовим. Для научных изысканий у нас и время то сейчас не подходящее.
– Как же? Вы же сами приглашали, не на сезонную же работу, на договор.
– Да. Не на сезонную, не на сезонную, – он задумчиво побарабанил пальцами по столу, – но, знаете ли, с людьми, с которыми заключён договор на конкретную работу, которые имеют доступ к глобальному интернету и могут обеспечить себя всем необходимым, и со ссыльными, прибывшими на постоянное место жительство по решению суда на наше иждивение, отношения не могут быть идентичными, согласитесь.
Я понуро кивнул.
– Ну, хорошо, когда я должен приступить к своим обязанностям? Вы мне покажите обсерваторию и мой кабинет?
– Покажу, покажу, – пробормотал отец Окимий, и связался с секретарём:
– Что, Люсенька, Герасим пришёл?
– Дожидается, отец Окимий!
– Хорошо, пусть войдёт.
В кабинет боком втиснулся и остановился у входа мужчина, тот самый, что на станции с сыном грузил товары в телегу, и пробасил:
– Добрый день, отец Окимий! Звал?
– Здравствуй, Герасим. Звал, звал. Проходи, садись, – отец Окимий кивнул на кресло с другой стороны стола, напротив меня.
– Да, чего уж я тут, – махнул рукой Герасим.
– Ну, хорошо. Скажи, Герасим, как у тебя с делами? На сенокос скоро?
– Ну! А то, как же. Июль же. Трава в самом соку, пора и на покос. Я уж завтра с Митрей собираюсь.
– Это очень хорошо. Надолго?
– Дак, как обычно, недельки на три-четыре, может и поболе выйдет. Как с погодой. Надо на всю зиму подготовить сенца-та, чтоб и нам, да и монастырю пособить.
– Вот и славно. Герасим, вот тебе и ещё руки.
– Какие руки? – Герасим недоверчиво покосился на меня. – Вот этот трухлявый, что ли?
– Герасим! Что ты такое говоришь, побойся Бога! – строго одёрнул его отец Окимий.
– Прости, Отец Окимий, только ослабони меня от энтого! Работы будет невпроворот, а когда за ним следить-то? Они – городские – хуже малых детей! Заморится, да ещё, не приведи Господь, убьётся чем! А на мне ответ. Никакой работы, один погляд за ним!
Отец Окимий пднялся и строго выпрямился.
– Ты, Герасим, никак забыл, что на последней исповеди я тебе сказал, что подумаю об епитимии для тебя? Так вот. Считай, что я налагаю на тебя такую епитимию, – отец Окимий поднял крест, висевший на его груди.
Герасим истово перекрестился и подошёл поцеловать крест и руку настоятеля.
– Покорно слушаю, Отче. Прости, мя грешного! – тяжело вздохнул он.
– Вот и хорошо, вот и славно! Олег Иванов под твоё начало переходит отныне и до особого моего распоряжения. Ступайте с Богом, – он перекрестил нас и опустился в кресло. Открыл компьютер.
– Пошли что ль, Олежка? Завтра поутру в дорогу. Готовиться надо, – сказал Герасим, и, прихрамывая, закосолапил к выходу.
Я растерянно поднялся с кресла.
– Позвольте! Я не понял. Как же так. Я – учёный. Я никогда и не косил, какой от меня там толк?
Отец Окимий строго взглянул на меня.
– Не о чем говорить больше, ссыльный. Исполняй, что велено. Ступай, – и властно махнул рукой.
Глава 10. Раньше смерти не помирай
Фёка ласково смотрела на меня, я хотел что-то сказать, но она нежно провела пальчиком по моим губам. Сердце сладко замерло, я закрыл глаза и потянулся к ней, чтобы обнять, но руки сомкнулись в пустоте.
Я огляделся и ничего не увидел. Я стоял в густом, как кисель, тумане, ничего нельзя было разобрать, только краем глаз угадывались мелькающие тени, которые пропадали, когда я пытался их разглядеть.
– Олег! – отозвался набатом в голове зов Фёки.
– Фёка! Ты где, Фёка?
– Олег, Олег! – звала она.
Я бросился на её голос, бежал и падал, и снова бежал. Туман цеплялся за одежду, за ноги, бросал в лицо липкие холодные ошмётки. Я с трудом отдирал их и задыхался, захлёбывался туманом.
– Фёка! Фёка!
– Олег! Олег! – всё ближе, всё отчётливее раздавался родной голос. Где-то здесь, вот сейчас, сейчас!
– Олег! Да проснитесь же, – кто-то тряс меня за плечо.
Я открыл глаза и увидел Митрия, склонившегося надо мной. Я сел, и провёл ладонями по голове и лицу.
– Ты чего?
– Ну, как чего? Ехать же пора. Отец сказал, чтоб не мешкали. Собирайтесь скорее. Вот смотрите, чего он вам прислал, – он поднял с пола мешок и положил на лавку.
– Что это? – я встал с постели и подошёл посмотреть. Раскрыл мешок и удивился: – А отец твой не забыл, что сейчас июль? А тут и сапоги, и тулуп.
– Так, ночи-то холодные бывают. Да и косить босым, что ли будете, или в ваших ботиночках? Босым нельзя, а ваша обувь не годятся. Коротка больно, а утром роса, да и змеи опять же. Сапоги надо. Одевайтесь, одевайтесь! Отец уж скоро за нами будет.
– Ладно, посиди, я умоюсь.
Пока я приводил себя в порядок и одевался, Митрий растопил печку и, сбегав в ледник, собрал завтрак. Когда я вошёл на кухню, на конфорке уже весело скворчала глазунья с салом, а на столе стоял горячий чайник. На нём вместо крышки пристроился маленький заварочник и потел пузатым боком, а рядом в большой тарелке истекал душистым ароматом свежеиспечённый хлеб, нарезанный крупными ломтями.
– Садитесь завтракать. Отец велел, чтоб вы крепко поели на дорогу.
– О! Спасибо, Митрий, как ты ловко управился.
– А то! Я ж сызмальства по хозяйству. Мы с отцом вдвоём живём, ему некогда бабьими-то делами заниматься. На нём вся обсерватория и поселение, а это считай десять дворов, – гордо выпятив грудь, похвалился мальчик.
– Он завхозом тут?
– Каким завхозом? Да нет! Староста он.
– Ясно, – улыбнулся я, садясь к столу.
– Ну, так вот! А вы кушайте, кушайте, – он подвинул ко мне сковороду. И вдруг стукнул себя по лбу: – Ложку-то! – и бросился к буфету. – Ну, так вот, – продолжал он, положив ложку рядом со сковородкой, – дом на мне, так что