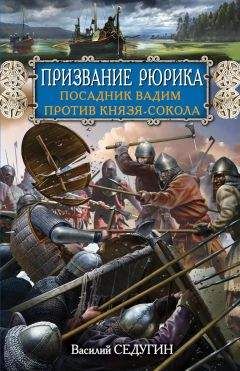– Додумались кое-где. И довольно давно. Это сейчас наш Никон борьбы аки блудницы чурается, а предки его, древние эллины, весьма ловкими борцами слыли. Хотя состязались только ради потехи да укрепления тела. А серьезную борьбу, смерть сулящую, способен вымыслить только народ, по какой-либо причине лишенный сручного оружия. Зачем свею, фрягу, дану или тому же нашенскому Сухману в борьбе совершенствоваться, если он с головы до ног в брони одет и вооружен до зубов. Как ни ловок рукопашный боец, а меч или шестопер все одно ловчее. Еще неизвестно, кто бы из нас двоих взял верх, будь у тебя при себе самый простенький ножик.
– Ножик-то у меня как раз имеется. – Тороп потянулся к голенищу щегольского козлового сапожка, снятого с предводителя убиенных печенегов. – Но я про него как-то забыл…
– А если бы вспомнил? Неужели подрезал бы меня?
– В запале мог бы. Особливо по пьянке, – честно признался Тороп. – Я, чай, русский человек. Сначала зарежу кого-нибудь по пустячному поводу, а потом каждодневно убиваться буду, пока руки на себя не наложу. Натура таковская, ничего не поделаешь.
– Занятный ты малый, Тороп. Кем только я тебя не знавал. И пьяницей, и нищебродом, и псарем, и верным слугой, и даже борцом. А ты, оказывается, еще и мыслитель. Только хорошо ли это?
– Крестить его надобно безотлагательно, а потом в Афонский монастырь на послушание отправить. Посты и молитвы всю дурь выгонят, – посоветовал Никон. – А иначе пропадет. Не от скудости души, а от ее избытка. Да и не он один. Весь ваш народ может пропасть. Недаром говорил Спаситель: блаженны нищие духом, ибо им откроется Царствие Небесное. Буйной реке плотины и береговые валы нужны, иначе она не только все вокруг затопит, но и сама в болотах и зыбучих песках иссякнет. Истинная вера будет вам защитой не только от чужаков, но и от самих себя.
– Как раз за это, божий человек, я и радею, – сказал Добрыня. – Будем уповать, что успех наш не за горами… А сейчас пора в путь-дороженьку собираться. Что-то засиделись мы здесь. И к тому же зазря…
Хотя и говорят, что степь, как море, шляхов не кажет, но опытный глаз всегда отличит нетронутую траву от той, которую спозаранку помяли-потоптали копыта горячих коней. Особенно это заметно осенью, когда степное былье подсыхает на корню, теряя прежнюю гибкость и силу.
Именно по такому следу, издревле именуемому «сакмой», и двигалось сейчас киевское посольство.
Довольно скоро они достигли одинокого печенега, согбенного под тяжестью сбруи, снятой с павшего коня. К молодецкой ватаге, напоровшейся утром на богатырей, он, судя по всему, никакого отношения не имел – и одет был несколько иначе, и годами сильно отличался, и вообще больше походил на пастуха, нежели на воина.
Завидев настигавших его чужеземцев, печенег остановился. Убегать в его положении было бессмысленно. Отбиваться – еще бессмысленней. Оставалось положиться на милость судьбы и угодливо улыбаться.
– Ты кто? – тесня его конем, осведомился Добрыня (по-печенежски, естественно).
– Темекей, – ответил пеший степняк, что в дословном переводе означало «падаль».
– Кто же тебя таким дурным имечком наградил?
– Родной отец. Только это имя хорошее. Ребенка с таким именем злые духи не украдут.
– Кто хан твой?
– Аргыш.
Это переводилось примерно так: «Собачье ухо». Очередная страшилка для злых духов.
– А кто хан Аргыша?
– Ильдей.
Имя, упомянутое на сей раз, было древнее, родовое, утратившее свой конкретный смысл. Отец нынешнего Ильдея тоже звался Ильдеем, как дед и прадед.
– Зачем вы к Днепру идете?
– Засуха поразила наши кочевья, – смиренно ответил печенег. – Стада траву ищут. Мы за стадами идем.
– Стада, стало быть, пасете. Да ведь пастухи одним арканом обходятся. А при тебе и лук, и сабля.
– Места чужие, места опасные…
– Знаешь, что мы сейчас с тобой можем сделать?
– Если бы хотели, давно сделали, – ответил печенег вполне рассудительно. – Знать, нужен я вам для чего-то.
– Угадал, косоглазый. Мы послы от киевского князя Владимира. Проводи нас к своему хану. Только не к Аргышу, а к Ильдею. Жизнь свою сохранишь, а вдобавок горсть золота получишь.
– Отведу, – охотно согласился печенег. – Нам все равно по пути. За жизнь благодарствую, а вот с золотом вы меня морочите.
– С чего ты взял? – удивился Добрыня.
– Всем известно, что ваш князь Владимир казну растерял и без единой монетки остался.
– Зачем же вы тогда в набег на Киев идете?
– Потому и идем. Нет золота – нет доброй дружины. Нет дружины – отпора не будет. А золото ваше нам ни к чему. Что на него в степи купишь? Мы ваших коней возьмем, ваш скот, ваши пожитки, ваших девок. В степи зимой все пригодится.
– Возьмешь, если до Киева доберешься. А пока задаток получи! – Сухман огрел печенега плетью, но только слегка, потому что случалось ему этаким манером даже лошадиные шкуры портить…
Лагерь хана Ильдея представлял собой целый город, перемещавшийся на запад со скоростью пятидесяти верст в день.
Центр его составляли возки-кибитки с войлочным верхом, а околицу – простенькие шалашики из кошмы и невыделанных шкур. Кроме людей, кочующий город населяли лошади, собаки, ловчие кречеты и блохи. Овцы были представлены только в освежеванном виде.
Запах кизячьих костров, жареного мяса и кислых овчин разносился ветром далеко по степи, даже дальше, чем рев верблюдов и конское ржание.
Послов в лагерь не пустили, велев оставаться на том самом месте, где они встретились с печенежской конной стражей, но при этом не разоружили, не лишили коней и даже злым словом не обозвали.
Печенеги были, конечно, дикарями, но неписаные степные законы чтили свято, в особенности те, что защищали послов и вообще всяких переговорщиков. Любой, проливший их кровь, покрывал себя несмываемым позором. Зато обмануть посла враждебной стороны считалось чуть ли не доблестью.
Длительность срока, который Добрыня и Сухман должны были провести в ожидании аудиенции, определялась степенью уважения к их номинальному сюзерену князю Владимиру. Иногда послов принимали тотчас, иногда заставляли ждать неделями. Впрочем, в условиях военного похода все сроки обычно сокращались.
Тихий светлый вечер тянулся нестерпимо медленно, и Добрыня продолжил сочинение героической песни, которая спустя много веков должна была превратиться в былину, утеряв при этом и мотив, и размер, и рифму, да и сам смысл.
Превратности пути, схватку с печенегами и единоборство с Сухманом он опустил ради краткости (все равно потом певцы-сказители добавят от себя массу ненужных подробностей), а перешел непосредственно к описанию текущего момента.