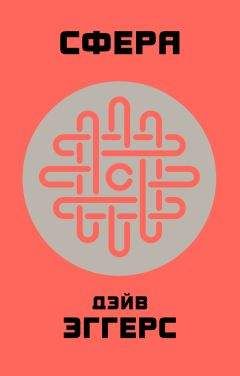Двери открылись, и конгрессмен разъехался напополам.
– Прибыли, – сказала Рената, шагнув на стальную решетку узкого мостика.
Мэй глянула через перила, и у нее скрутило живот. Видно было вниз на все четыре этажа.
– Люди с вертиго здесь, наверное, не работают, – с напускной беспечностью заметила она.
Рената притормозила и обернулась в ужасной тревоге:
– Конечно нет. Но в твоем профиле говорилось…
– Нет-нет, – сказала Мэй. – Мне-то что.
– Я серьезно. Можем перевести тебя пониже, если…
– Нет-нет. Правда, тут красота. Прости. Пошутить хотела.
Рената, видимо, перенервничала.
– Ладно. Но если что не так, ты скажи.
– Скажу.
– Да? А то Энни просила все устроить как надо.
– Я скажу. Честно, – ответила Мэй и улыбнулась.
Рената, оклемавшись, зашагала дальше.
Мостик вывел на этаж – многокомнатный и многооконный, рассеченный длинным коридором. По бокам офисы за стеклом от пола до потолка, видно местных обитателей. Каждый украшал пространство по-своему – прихотливо, но со вкусом: в одном кабинете полно парусных атрибутов, в основном висят в воздухе на открытых балках, другой уставлен бонсаями. Мэй и Рената миновали кухню – серванты и полки стеклянные, приборы магнитные, аккуратно перекрещиваясь, цепляются к холодильнику, все освещено громадной стеклянной люстрой ручной работы – лампочки разноцветно сияют на оранжевых, персиковых, розовых щупальцах.
– Ну вот.
Они остановились возле офиса – серого, тесного, обитого каким-то синтетическим полотном. Сердце у Мэй екнуло. Почти в таком же офисе она работала последние полтора года. Первая деталь в «Сфере», которую не выдумали заново, которая напоминала о прошлом. Стены обиты – Мэй глазам не поверила, да быть такого не может – мешковиной.
Мэй понимала, что Рената за ней наблюдает, и знала, что сама таращится в некоем ужасе. Улыбнись, подумала она. Улыбайся.
– Нормально? – спросила Рената, мечась взглядом по ее лицу.
Мэй сложила губы в улыбку ненулевого удовольствия.
– Прекрасно. Вполне.
Она ожидала иного.
– Ну и славно. Привыкай пока, а скоро придут Дениз и Джосия, сориентируют тебя и помогут устроиться.
Мэй снова скривила губы улыбкой, а Рената развернулась и ушла. Мэй села. Отметила, что спинка кресла держится на соплях, а колесики заклинило, причем все разом. На столе компьютер, но допотопная модель, какой она больше нигде тут не видела. Все это ее огорошило; настроение стремительно падало в бездну, где провело последние годы.
* * *А что, кто-то еще работает в коммунальных службах? Как это Мэй угораздило? Как она это выносила? Когда спрашивали, где она трудится, Мэй предпочитала врать, что она безработная. А если б не в родном городе – было бы легче?
Лет шесть презирала родной город, проклинала родителей за переезд, за то, что обрекли ее на это захолустье, на эту узость и нехватку всего: развлечений, ресторанов, просвещенных умов, – но в последнее время вспоминала Лонгфилд с какой-то даже нежностью. Маленький самоуправляемый городишко между Фресно и транкуилити, наречен был в 1866 году фермером без капли фантазии. Миновало полтора века – население под две тысячи душ, и это максимум, большинство ездят на работу за двадцать миль во Фресно. Жить в Лонгфилде выходило дешево, родители ее подруг были охранниками, учителями, дальнобойщиками и любили охотиться. В ее выпускном классе учился восемьдесят один человек – лишь она и еще одиннадцать на четыре года пошли в колледж, и она одна уехала восточнее Колорадо. Так далеко забралась, влезла в такие долги, а потом вернулась работать в коммунальной службе – это разбило сердце и ей, и ее родителям, хоть они и твердили, что она молодец, уцепилась за надежный шанс, начала выплачивать кредиты.
Коммунальная служба, «строение восточное 3б» – трагическая гора цемента с узенькими бойницами вместо окон. Офисы в основном из шлакоблоков, и все выкрашено тошнотворной зеленью. Как в раздевалке работаешь. Мэй тут была моложе всех лет на десять, и даже те, кому за тридцать, произошли из другого столетия. Они дивились ее компьютерной грамотности – минимальной и типичной для всех ее знакомых. Но коллеги в коммунальной изумлялись. Называли ее Черной Молнией – вялый намек на ее волосы – и прочили ей «славное будущее» в коммунальном хозяйстве, если она удачно разыграет свои карты. Может, годика через четыре-пять, говорили ей, станешь начальницей отдела Ит целой подстанции! Ее раздражению не было пределов. Не для того она поехала в колледж и выучила гуманитарщины на 234 000 долларов, чтоб потом вкалывать тут. Но работа есть работа, а деньги были нужны. Студенческие кредиты прожорливы, их нужно ежемесячно кормить, и Мэй согласилась на работу с зарплатой, а сама глядела в лес, как тот волк.
Непосредственным ее начальником был некий Кевин, якобы директор по технологиям коммунальной, который, как это ни странно, о технологиях ничегошеньки не знал. Он понимал в кабелях и распределителях; ему бы в подвале радиоприемники клепать, а не командовать Мэй. Изо дня в день и из месяца в месяц он носил одинаковые рубашонки с коротким рукавом, одинаковые галстуки ржавого цвета. Органы чувств от Кевина дурели: изо рта у него воняло ветчиной, а густые всклокоченные усы торчали из вечно раздутых ноздрей двумя звериными лапками, указуя на юго-запад и юго-восток.
И все бы ничего, пусть бы ему со всеми его изъянами, не верь он взаправду, что Мэй не все равно. Он полагал, будто Мэй, выпускница Карлтона, хранительница редких золотых грез, любит свою работу в службе газа и электричества. Будто Мэй расстроится, если Кевин сочтет, что, допустим, сегодня она неважно поработала. Вот это бесило несказанно.
Когда он зазывал ее к себе в кабинет, закрывал дверь, садился на угол стола – о, то были душераздирающие минуты. «ты понимаешь, почему ты здесь?» – спрашивал он строго, точно патрульный на шоссе. А когда был доволен тем, как она потрудилась, делал кое-что похуже – хвалил. Называл ее своей протеже. Ему нравилось слово. Так и представлял ее посетителям:
– Это моя протеже Мэй. Как правило, умненькая, – и подмигивал ей, словно он тут капитан, а она старпом, оба они пережили немало бурных приключений и навеки друг другу преданы. – Если сама об себя не споткнется, ей здесь предстоит славное будущее.
Это было невыносимо. Все эти полтора года Мэй каждый день размышляла, не попросить ли Энни об одолжении. Мэй не из тех, кто просит, кто молит о спасении, о помощи. У нее в характере этого не было – попрошайничества, назойливости, приставучести, как выражался отец. Родители ее были скромные люди, не любили навязываться – скромные, гордые люди, ни от кого не принимали подачек.