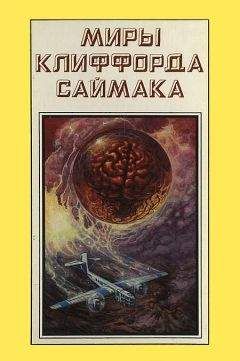Он охотно согласился удовлетворить моему любопытству, и наша беседа превратилась в монолог. Он говорил без умолку почти целый час, и я должен сознаться, что довольно плохо понимал его речь. В это первое свидание я очень мало уяснил себе цель в его работы. Половина его слов состояла из технических терминов, совершенно для меня непонятных; некоторые же пункты он пояснил мне при помощи элементарной математики, делая выкладки на клочке оберточной бумаги. «Да, — говорил я, — да, — да… Продолжайте». Тем не менее, я убедился, что он не шутит, не играет словами. Несмотря на его чудаковатый вид, в нем видна была сила, делавшая невозможным подобное предположение. Он рассказывал, что у него есть мастерская и три помощника, первоначально работавших в качестве плотников, которых он приспособил к своему делу. А ведь от мастерской до патентного управления, выдающего привилегии на изобретения, всего один шаг. Он пригласил меня побывать у него в мастерской, на что я охотно согласился.
Наконец, он стал прощаться, прося извинения за продолжительность своего визита. Поговорить о своей работе, сказал он, доставляет ему удовольствие, которым он весьма редко пользуется. Ему не часто случается встретить такого интеллигентного слушателя, как я; с профессиональными же учеными он очень мало водился.
— Так много мелочности, — пояснил он мне, — такая масса интриг! И в особенности, когда имеешь идею новую, плодотворную идею… Не хочу быть жестоким, но…
Я — человек верящий в сердечные побуждения. Я сделал, может быть, необдуманное предложение. Но припомните, что я был одинок, сидел в Лимпне уже две недели над сочинением пьесы и меня еще мучила мысль о расстроенной прогулке моего собеседника.
— Так сделайте эти визиты, — предложил я, — вашей новой привычкой, вместо той, которой я лишил вас. По крайней мере, до тех пор, пока мы не решим вопроса о бенгало. Вам нужно обдумывать вашу работу, что вы делали всегда во время вашей послеобеденной прогулки. К сожалению, прогулка эта расстроилась; но почему бы вам не приходить побеседовать о вашей работе ко мне, пользуясь мною как своего рода стеною, в которую вы можете бросать свои мысли и получать их отраженными обратно? Я не настолько сведущ, чтобы сам мог похитить вашу идею, и у меня нет знакомых ученых.
Он соображал. Очевидно, мое предложение ему понравилось.
— Но я боюсь наскучить вам, — сказал он.
— Вы думаете, я слишком туп?
— О нет, но технические подробности…
— Как бы то ни было, вы крайне заинтересовали меня сегодня.
— Конечно, это было бы большим подспорьем для меня. Ничто так не уясняет идей, как изложение их другому. До сих пор…
— Ни слова более, сэр.
— Но можете ли вы уделять мне ваше время?
— Нет лучше отдыха, как перемена в занятиях, — проговорил я с чувством глубокого убеждения.
Дело было улажено. Уходя, он заявил, что чрезвычайно мне обязан. Я издал вопросительный звук.
— Вы излечили меня от смешной привычки гуденья.
Я ответил, что радуюсь, если мог оказать ему какую-нибудь услугу.
Но, вероятно, направление мысли, вызванное нашей беседой, вновь овладело им тотчас по выходе от меня. Руки его начали размахивать прежним манером. Слабое эхо гуденья доносилось до меня по ветерку…
Ну, это было не мое дело.
Он явился на другой день и на следующий день и прочел две лекции по физике, к нашему общему удовольствию. Он говорил с видом человека, имеющего вполне ясное представление об «эфире», о «проводниках силы», о «гравитационном потенциале» и тому подобных вещах, а я сидел на другом моем кресле и приговаривал: «Да, да, продолжайте, я слежу за вашим изложением».
Это была страшно запутанная материя, но я не думаю, чтобы он подозревал, насколько основательно я его не понимаю. Бывали моменты, когда я начинал сомневаться, хорошо ли я пользуюсь своим временем, но, во всяком случае, я отдыхал от сочинения этой проклятой драмы. По временам мое внимание совсем ослабевало, и я подумывал, не лучше ли изобразить этого чудака в виде центральной фигуры великолепного фарса.
При первом удобном случае я пошел поглядеть его дом. Это было большое строение, небрежно меблированное; тут не было никакой прислуги, кроме трех его помощников; его обыденная и частная жизнь характеризовалась философской простотой. Он был приверженцем воды и растительной пищи и всего логически следующего отсюда сурового режима. Но обстановка его дома возбуждала много недоумений. Тут все имело вид лаборатории, от подвала до чердака, и являлось удивительным уголком среди глухого поселка. Комнаты нижнего этажа были наполнены станками и аппаратами, пекарня и котел судомойни превратились в печи изрядной величины; в подвале помещались динамо-машины, а в саду находился газометр. Он показывал мне все это с доверчивостью и экспансивностью человека, чересчур долго жившего в одиночестве.
Три его помощника были из числа людей, что называется, «на все руки». Добросовестные, и если не интеллигентные, то сильные, вежливые и услужливые. Один, Спаргус, готовивший кушанье и справлявший всю металлическую работу, был прежде матросом; второй, Джибс, был столяр, третий же, экс-садовник, являлся тут главным помощником. Но это были простые работники. Весь интеллигентный труд исполнял сам Кавор. Они пребывали в глубоком невежестве, даже по сравнению с моим смутным пониманием.
Теперь о свойствах этих исследований. Тут, к несчастью, является серьезное затруднение. Я не ученый эксперт, и если бы попробовал излагать высоко-научным языком м-ра Кавора цель, к которой были направлены его опыты, то боюсь, что не только спутал бы читателя, но и сам бы запутался и, наверное, наделал бы ошибок, на которых меня поднял бы насмех любой студент, слушавший лекции математической физики. Поэтому, пожалуй, лучшее, что я могу сделать, это передавать мои впечатления своим собственным неточным языком, без всякой попытки облечься в тогу знания, носить которую я не имею ни малейшего права.
Целью изысканий м-ра Кавора было такое вещество, которое должно бы быть «непрозрачным» — он употреблял какое-то другое слово, которое я позабыл, но термин «непрозрачный» верно выражает идею — для «всех форм лучистой энергии». «Лучистая энергия», как он объяснял мне, есть нечто подобное свету, или теплоте, или рентгеновским лучам, или маркониевским электрическим волнам, или тяготению. Все эти вещи, говорил он, излучаются из центра и действуют на тела через пространство, откуда и происходит термин «лучистая энергия». Почти все вещества непрозрачны или непроницаемы для той или иной формы лучистой энергии. Стекло, например, прозрачно для света, но гораздо менее прозрачно для теплоты, так что его можно употреблять как ширму против огня, а квасцы прозрачны для света, но совершенно не пропускают тепло. С другой стороны, раствор иода в двусернистом углероде не пропускает света, но вполне тепло-прозрачен. Он скроет от нас огонь, но сообщит всю его теплоту. Металлы непрозрачны для света, но не для теплоты и электрической энергии, и так далее.