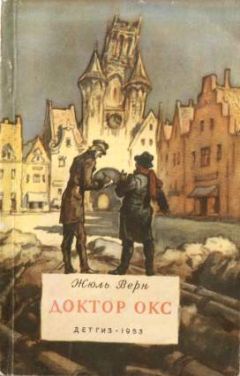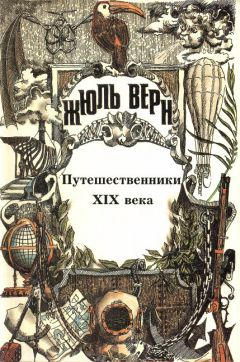— Что ж делать, Никлосс, — возразил достойный бургомистр. — Нет ничего нелогичнее несчастных случаев. Между ними нет никакой связи, и мы не можем, как хотели бы, использовать один, чтобы смягчить другой.
Это тонкое замечание ван-Трикасса потребовало некоторого времени, чтобы советник мог оценить его.
— Да, — начал снова Никлосс, — но мы даже не говорим о нашем большом деле.
— Каком большом деле? У нас есть, значит, большое дело? — спросил бургомистр.
— Несомненно. Речь идет об освещении города.
— Ах да, — ответил бургомистр, — если память не изменяет мне, вы говорите о проекте доктора Окса?
— Вот именно.
— Дело двигается, Никлосс, — ответил бургомистр. — Уже начата прокладка труб, а завод совершенно закончен.
— Может быть, мы немного поспешили с этим делом, — заметил советник, покачав головой.
— Может быть, — отвечал бургомистр. — Но наше оправдание в том, что доктор Окс берет все расходы по своему опыту на себя. Это нам не будет стоить ни гроша.
— Это действительно наше оправдание. И потом, конечно, нужно итти в ногу с веком. Если опыт удастся, Кикандон будет первым городом Фландрии, освещенным газом окси… Так он называется, этот газ?
— Оксигидрический.
— Вот именно — оксигидрическим газом.
В этот момент дверь отворилась, и Лотхен доложила бургомистру, что ужин подан.
Советник Никлосс поднялся, чтобы проститься с ванТрикассом, у которого от всех решенных и нерешенных дел разыгрался аппетит. Затем было условленно, что со временем придется созвать совет именитых людей города, чтобы решить, не принять ли какое-нибудь предварительное решение по вопросу об Ауденаардской башне.
Оба достойных администратора направились к выходной двери. Советник зажег маленький фонарик, так как улицы Кикандона, еще не освещенные газом. доктора Окса, были окутаны непроглядной октябрьской тьмой и густым туманом.
Приготовления советника Никлосса к отбытию потребовали доброй четверти часа; когда фонарь был наконец зажжен, советник обулся в огромные калоши из воловьей кожи и натянул на руки толстые перчатки из кожи бараньей, поднял меховой воротник, надвинул шляпу на глаза, вооружился тяжелым зонтом с изогнутой ручкой и приготовился выйти.
В ту минуту, как Лотхен хотела снять дверной засов, снаружи послышался шум.
Да! как бы невероятно это ни казалось, шум, настоящий шум, какого город не слыхал со времени вторжения испанцев в 1513 году, ужасный шум пробудил глубоко уснувшее эхо старого дома ван-Трикасс. В дверь стучали — в дверь, нетронутую еще никаким грубым прикосновением! Стучали часто и сильно тупым орудием, очевидно узловатой дубиной. Ясно слышались слова:
— Господин ван-Трикасс, господин бургомистр! Откройте, откройте скорее!
Бургомистр и советник, совершенно ошеломленные, глядели друг на друга, не говоря ни слова. Это превосходило их воображение. Если бы выстрелила старая замковая пушка, не стрелявшая с 1385 года, обитатели дома ван-Трикасс не были бы ошарашены более. Да простят нам читатели это слово: его грубость искупается его выразительностью.
Тем временем удары, крики, зов все усиливались. Лотхен, взяв себя в руки, решила заговорить.
— Кто там? — спросила она.
— Это я! я! я!
— Кто вы?
— Комиссар Пассоф!
Комиссар Пассоф! Тот самый, об упразднении должности которого говорилось вот уже десять лет! Но что же произошло? Не напали ли на город бургундцы, как в ХIV веке? Нужно было событие не меньшей важности, чтобы взволновать до такой степени комиссара Пассофа, не уступавшего в отношении спокойствия и хладнокровия самому бургомистру.
По знаку ван-Трикасса — ибо этот достойный человек не мог произнести ни слова, — засов был снят, и дверь открылась.
Комиссар Пассоф ворвался в переднюю, словно ураган.
— Что случилось, господин комиссар? — спросила Лотхен, храбрая девушка, не терявшая головы даже при самых серьезных обстоятельствах.
— Что случилось! — повторил Пассоф, в круглых глазах которого отражалось неподдельное волнение. — Случилось то, что я прямо от доктора Окса, где было собрание, и там…
— Там? — повторил советник.
— Там я был свидетелем таких споров, что… Господин бургомистр, там говорили о политике!
— О политике? — повторил ван-Трикасс, взъерошивая свой парик.
— Да, — продолжал комиссар Пассоф. — Этого в Кикандоне не случалось, может быть, уже сто лет. Там начался спор. Адвокат Андре Шют и врач Доминик Кустос доспорились до того, что дело может дойти до дуэли.
— До дуэли! — вскричал советник: — Дуэль! Дуэль в Кикандоне! Но что же сказали друг другу адвокат Шют и врач Кустос?
— Вот слово в слово: «Господин адвокат, — сказал врач, — вы заходите слишком далеко, как мне кажется, и недостаточно взвешиваете свои слова».
Бургомистр ван-Трикасс заломил руки. Советник побледнел и уронил свой фонарик. Комиссар покачал головой. Чтобы такие ужасные слова произносили столь почтенные люди!
— Этот врач Кустос, — прошептал ван-Трикасс, — решительно опасный человек, горячая голова! Идемте, господа!
Все трое вернулись в гостиную бургомистра.
ГЛАВА IV,
где доктор Окс оказывается первоклассным физиологом и смелым экспериментатором
Что же это за человек, известный под странным именем доктора Окса?
Оригинал, конечно, но в то же время смелый ученый, физиолог, работы которого известны и знамениты в Европе, счастливый соперник Дэви, Дальтона, Менци, Годвина, всех этих великих людей, выдвинувших физиологию в первые ряды современной науки.
Доктор Окс был человек не слишком полный, среднего роста, лет… но мы не смогли бы указать точно ни его возраста, ни национальности. Да это и не важно: достаточно знать, что это был странный человек, с горячей и мятежной кровью, как бы соскочивший со страниц Гофмана[1] и удивительно не похожий на жителей Кикандона. В себя, в свои теории он верил непоколебимо. Всегда улыбающийся, с высоко поднятой головой, с походкой свободной и уверенной, с ясным, твердым взглядом, с большим ртом, жадно глотавшим воздух, он производил на всех приятное впечатление. Он был живым, несомненно живым, прекрасно уравновешенным во всех своих частях механизмом, с хорошим ходом, со ртутью в жилах и сотней иголок в пятках. Он не мог ни минуты оставаться спокойным и рассыпался в торопливых словах и бесчисленных жестах.
Был ли он богат, этот доктор Окс, решивший на свои средства осветить целый город?
Вероятно, если он позволял себе такие расходы, и это единственное, что мы можем ответить на этот нескромный вопрос.