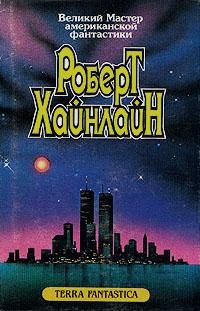И вдруг моя жена стала отказываться от еды и через два месяца умерла. Я обезумел от горя и, простясь с ее прахом, стал прощаться и с белым светом, потому что твердо решил, потеряв жену, покончить счеты со своей жизнью. Вечером я взял острый кинжал и налил себе теплую ванну, чтобы кровь вытекала безболезненно.
Когда я входил в ванну, мой взгляд упал на зеркало и я со страхом понял, что за все свое пребывание здесь, а оно равнялось нескольким десятилетиям, у меня появилось всего только три тоненьких морщинки. Лючия умерла, умер и Ульпий Урбиний. Я вскрикнул и одним взмахом перерезал себе вены на сгибе руки. Мне стало больно, но крови не было. Меня это удивило и я ударил повторно. И опять ни капельки крови! Тогда я бросил кинжал и кинулся бежать как от чумы. Мой покровитель, бог Янус помог мне никем не замеченным перепрыгнуть через городские стены.
Так я бежал всю ночь по дорогам и просекам, пока, наконец, не услышал шум воды в акведукте, построенном когда-то Аппием. А потом я выдолбил эти письмена, и произошло это в то время, когда Траян расположил свои легионы в полях около Сердики после победоносной войны с Децибаллом.
IV.
Великое спокойствие и тихое наслаждение вымывают из наших душ раны, нанесенные даже самой безумной страстью. Найди себя, человек, потому что вечное дыхание в тебе самом, и только так ты поймешь, что Вселенная тебе родная сестра, а бесконечность и начинается, и кончается на кончиках твоих пальцев...
Я привык сидеть на том месте, где быстрая горная речка вливалась в глиняное ложе акведукта, и я был не в силах избавиться от удивительного открытия, что я - это не я. Ход моих мыслей не подчинялся воле, а мои собственные воспоминания будто бы принадлежали не мне. Я хотел вызвать в мыслях Рим, но представлял себе только свинцовые стрелы акведуктов, впившиеся в его плоть.
Хотел думать о богатом доме Ульпия Урбиния и обо всех других прекрасных зданиях, но видел только сероватые трубы, из которых повсюду струилась вода, поступая в бассейны, в фонтаны. Острая боль пронизывала всего меня при мысли о Лючии, но и она виделась мне только купающейся в роскошной ванне и звонко смеющейся, в то время как вода проникала в ее тело все глубже и глубже. И опять же не по своей воле я вспомнил, что последние месяцы Лючия почти не выходила из бани, потому что на улице ее лицо же тело и ее тошнило от одного только вида пищи. Даже когда моя жена уже похудела так, что не могла ходить, несколько рабынь переносили ее в ванну и клали под теплую струю. Там я и нашел ее умершей - глаза Лючии удивленно смотрели на стекающую воду...
Великое спокойствие и тихое одиночество вымывают из моей души раны, нанесенные глубокой скорбью.
И вот однажды я попросил сборщика податей Теренция, который посетил меня, стереть свинец в порошок, высыпать его в глиняный кувшин и пустить туда рыбу. И когда через несколько минут мертвая рыба всплыла, обратив к небу свое серебристо-голубое брюшко, я вскрикнул от боли, потому что страшная истина как кнутом хлестнула меня по лицу. И не разумом своим, а темным усилием живущего во мне другого человека, я понял, почему моя жена Лючия умерла так скоро и неожиданно. Также я понял, по какой причине умер Ульпий Урбиний и тысячи других знатных граждан Рима, потому что не могло не броситься в глаза, что среди простого народа намного больше стариков, чем среди нобилей. Акведукты, те самые "серебряные дорожки благодати, всегда обвитые разноцветным нимбом радуг", как я воспел их в десятках моих стихотворений, медленно губили Рим ядовитым - свинцом своих труб. И вода, которую мы пили, уже не была чистой!
Много времени я жил в плену этого страшного открытия, сделанного мной по воле двуликого бога Януса, покровителя и входа, и выхода и любого начала, пока еще более странный случай не оторвал меня от размышлений.
Однажды я сидел у своего скромного дома, построенного Аппием, и вдруг ко мне подбежал, запыхавшись, какой-то оборванный плебей.
Не успел я опомниться, как он схватил меня за руку и быстро заговорил:
- Слушай, друг мой, брат мой, слушай все, а что запомнишь, расскажи другим. В любой миг меня могут погубить за бога, в которого я верую. И за него я умру с той же кротостью и смирением, с которыми он умер ради меня на кресте. Я христианин, отшельник, а это значит, что я верю в святую и неделимую троицу: богатворца Иеговы, его сына и искупителя земного зла Иисуса и святого духа, что вечно парит над землей и водой и несет благодать раскаяния. Мой бог не зол и страшен как ваши, а добр и благ. Ему не нужны жертвенные огни и кровь, а, наоборот, праведная жизнь и молитва. Все равны перед ним, брат мой, и даже сам император не выше последнего плебея. Больным и бедным он говорит: "Последние да будут первыми", а тем, что всю жизнь осуждены быть рабами: "Придите ко мне все униженные и оскорбленные". Есть ли среди ваших диких, развратных и жестоких богов кто-нибудь величественнее его? Да, я умру, но после смерти не отправлюсь, как ты, в мрачное царство Плутона и Прозерпины, а вознесусь на третье небо к благим лицам ангелов в небесных селениях. Стань христианином, отшельник, ибо нет бога справедливее Иеговы и его сына Иисуса, агнца божьего...
В этот момент к дому подбежали с десяток легко вооруженных воинов под предводительством центуриона. При виде их христианин до боли сжал мне руку и вдруг с диким смехом бросился на меч одного из воинов. Я видел, как острие вонзилось в его тело, и в тот же миг желобок на лезвии меча покраснел от крови.
Гневно воскликнув, центурион подбежал к этому воину и сильно ударил его тупым ребром меча. Он не переставал кричать, что этот несчастный должен был умереть завтра, на триумфе императора Александра Севера. Потом его взгляд упал на меня и он спросил:
- А ты тоже против наших богов?
- Нет, - ответил я ему. - Я против вашей долы.
- Все равно, - сказал центурион и сделал знак воинам, чтобы они схватили меня.
- Ты умрешь завтра вместо него!
Так я еще раз покинул акведукт, воздвигнутый Аппием Клавдием, не подозревая, что на этот раз навсегда.
V.
Звук, подобный пчелиному жужжанию проник в трюм большой галеры, и свет неожиданно стал ярче, как будто кто-то подул на пропитанную карфагенской смолой паклю. Нам видны лица, одинаковые одежды, но глаза слишком медленно привыкают ко все усиливающемуся блеску, и нам удается различить только неясные очертания плоти.
Глядя через огромный кристалл, отделяющий нас от звезд, мы обнаруживаем, что за ним исчезла темнота и цвета быстро сменяют друг дрyга: мы видим голубизну бездонного моря, зелень смарагда, синь персидского сапфира, белизну перламутра, желтый блеск золота, желтизну топаза и, наконец, острые рубиновые языки пламени... Сами мы не можем двинуть ни рукой, ни ногой; будто в жилах у нас течет расплавленный свинец, дышим с трудом и насос жизни бьется конвульсивно в груди. Все это длится на протяжении какого-то великого безвременья - ни короткого, ни слишком долгого. Потом это путешествие, напоминающее головокружительное падение с высоты, заканчивается и в какой-то затянувшийся миг царит тишина.