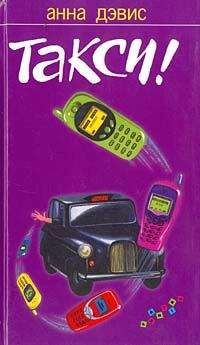Я жив. Но жив не я. Нет, я в себе таю
Того, кто дал мне жизнь в обмен на смерть свою.
И смерть моя, и жизнь со смертью наравне,
Смысл и бессмыслица содержатся во мне.
Какое же принять мне следует решенье?
Я смею лишь желать. Тебе дано свершенье.
Освободив мой ум от суетной тщеты,
Возьми меня всего и мне предайся ты!
(Из старонемецкой поэзии. Пер. Л.Гинзбурга)
Так говоря, Маша потянула Аверина за руку, подняла его с лавки и через красную теплоту кухни и нежную желтизну прихожей плавнокарнавально провела в синюю тишину комнаты, где усадила в мышиный бархат кресла, сложенного из огромных подушек. Строки остались звучать по пути их шествия так, что если вернуться, они снова оживут, каждая на том месте, где произнесена. - Я же предупреждала, что не прибрано, - Маша забралась с ногами на диван, сложенный, как и кресло, из таких же огромных подушек, на которых выглядывало розовое поле простыни в узоре мелких цветочков и поверх одеяла раскинулась крупная клетка пледа. Аверин сказал самое глупое из того, что первым пришло в голову: - Где же ваша нелюбовь к стихам? Наверное, ему вообще не надо было говорить что-либо - столько мгновенной неприязни проявилось в Машиных словах: - А что вы знаете про любовь и нелюбовь, Георгий? Или вы всегда ловите женщину на слове? Тогда понятно, почему вам так не везет с нами... Обида! За что? Аверин никогда никого не желал обидеть. Если и случалось такое с ним, то как оплошность, неверно понятая ситуация, незнание каких-то фактов. Причем позже Авери долгое время мучился неожиданными, вгоняющими в удушливую краску стыда воспоминаниями о случайной, но содеянной несправедливости. И уж совсем терялся, когда обида наносилась ему открыто и расчетливо теми губами, которыми он только что любовался, тем человеком, от которого он был менее всего защищен. В этом Маша не отличалась от Лалы. Но сейчас разломались запоры, опрокинулись стены, столько спелой горечи было в словах Аверина. Неужели все одинаковы, неужели обязательно утверждать свое "я" только унижением другого? Безнадежно... и вот уже черными подглазьями закачала тоска головой в душе у Аверина, незалитый пожар недавней обиды вновь заполыхал пощечинами и отчаянье опять принялось тихо заглядывать в пропасть смертельного одиночества. Лишь недавно Аверин очнулся от дурмана Лалы: как он верил тогда самой великой иллюзии - миражу полного человеческого единства! Сколько же им надо было с Лалой сказать друг другу на восходе любви и какая была молчаливая опаленность чувств в зените и какой же была изнуряющей потребность в ласке на закате их отношений. Страшнее всего разбитый хрусталь уважения, кровавые осколки, просто откровенная жестокость: "Ты мне неинтересен", взгляд мерклых, от равнодушия несиних глаз и удовлетворенная усмешка - улыбка самой себе, правильности своего, даже несказанного, но ясного, как осенняя вода, решения: зачем ты мне?..
Аверин захлебнулся на полузвуке, и встала тишина - так в долгую непогоду вдруг слышишь дождь - так в глухомани леса просыпается дыхание - так плавно спит под водой трава. - Уйди, собака, - приказала Маша псу. - Совсем уйди. На место. Маша встала на диване во весь рост и разделась. Нет в языке такого слова, не для названия - для иного то пространство нежной кожи, что охватив округло бедра через две небольшие ложбины полого вздымается к впадине пупка и легко нависает над кошмой треугольника. Плохо это звать животом. И по-солдатски звучит "грудь", разве позволительно перси окрикнуть командой: "Ле-е-вая грудь, вперед!" Машин живот разрубленно рассекал шрам. - Ты понимаешь, Георгий, Лапа не может видеть, как люди занимаются любовью. Тогда она забивается под стол и тяжело дышит. А Лапу жалко. Ведь у нее, как и у меня, детей никогда не будет. Ей нужен свой, единственный, она же редкой породы, таких осталось-то единицы, только в Швеции, да в Англии. Звонили мне из собачьего клуба, во оказался подарочек... Суперсука... А может, свести ее просто к соседскому кобелю? Он к ней давно принюхивается. Маша усмехнулась. - Вот так и меня в свое время подложили. И ведь кто? Предки мои, не поверишь. Надо Машеньке на работу устраиваться, уж вы, Александр Петрович, возьмите ее к себе курьером ли, секретаршей. Взял. И в институт устроил, Шурик, долго терпел-кряхтел, а весной отметили мы с ним поступление к альмаматери... С тех пор и весна мне не в радость... Господи, какая чушь! Зачем бабе высшее образование, должность, оклад, если ей и так от мужиков отбоя нет? Правда, крепко вы из меня вышибали иллюзии-то. Хоть в стихи рядитесь, хоть в работу, хоть в туризм-альпинизм - все одно у вас на уме, все вы сволочи. Все. Без исключения. Я-то теперь знаю, чего хочу от жизни. И где вас погладить да поцеловать, чтобы вы закричали от пронзающего наслаждения, а потом вей из вас, родимых, ручных, свое благополучие. А уж я сама себе выберу, коль захочется, тебя за пальцы твои длинные да за стихи, что почти не просят... Хотя чего на вас пенять, коли у самой душа крива? Машины глаза за стеклом равнодушия, гладкий, нешершавый голос, не теплый, а зеркальный, через бесплотность пустоты завораживающе сливающийся, голубая пыль вен на руках и полусколупнутая лиловина лака на безымянном пальце. Аверин встал. "Положить бы ей руки на плечи, взять в ладони ее лицо и целовать, целовать... а потом рассмешить до беззаботности, а когда нахохочется, рассказать колыбельную-сказку, только что-то в этом всем - от поганенькой той мысли: "Соседка - это..." - подумал Аверин и Машиным жестом, ладонью, почти не касаясь, огладил ее лицо, как родное. - Пусть ночь тебе будет спокойной, Маша. К утру обещали тепло с солнышком, и так и будет. ...Щелкнул замок за спиной у Аверина. Он дальше не пошел, а так и стоял, прислонившись спиной к двери. В комнате резко и, как показалось Аверину, требовательно зазвонил телефон. Аверин поднял трубку. - Здравствуй, это я, - сказала Лала.