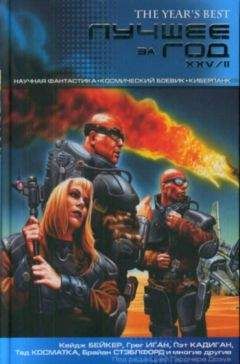Водитель меня бросил. Он говорит, что вернется через два дня и будет ждать меня около КПП, но я ему не верю. Мое доверие к нему заканчивается здесь и сейчас, и я не буду платить ему аванс за привилегию транспортировать меня из этого места. На самом деле он или забудет, или умрет, или решит, что я забыла или умерла, чтобы облегчить свою совесть, если остатки оной у него еще сохранились.
Я иду в глубь лагеря, рюкзак болтается на моем плече. Легкая походка, относительно чистая одежда и набитая сумка выдают во мне вновь прибывшего, человека, которому здесь не место.
Жара угнетает. Везде солнцепек, ни единого тенистого местечка, за исключением палаток Красного Креста, а также Красного Полумесяца, сопутствующего ему в этих местах. У палаток сидят люди, некоторые держат на руках младенцев, другие присматривают за детьми, которые копошатся туг же в грязи.
Дорогу пересекают ручейки жидкости. Судя по запаху и содержимому потоков, это не вода. Это может быть моча — из-за отсутствия здесь нормального отхожего места — или кровь.
Здесь много крови.
Я не снимаю на камеру и не фотографирую. Западный мир видел места, подобные этому, и прежде, бесчисленное количество раз. Когда я была ребенком, ночное TV крутило рекламные ролики, демонстрировавшие жизнерадостного мужчину, который таскался по таким лагерям вместе с хорошо одетым ребенком и раздавал какое-то религиозное подаяние, якобы с целью помочь людям.
Тем, кто попал сюда, милостыня не поможет. Она только сдерживает процесс, предотвращая смерти, но постоянно ухудшая положение этих загнанных в угол людей. Никто не может найти для них настоящий дом, обеспечить их реальной работой, никто не пытается учить их языку и, что более важно, не занимается урегулированием политического кризиса или прекращением войн, которые в первую очередь и породили эти проблемы.
Работники гуманитарных организаций вкалывают намного больше чем я, потому что если они на самом деле пытаются что-то сделать, то кочуют из страны в страну, из лагеря в лагерь, из кризиса в кризис, сознавая: на каждую сохраненную жизнь приходится тысяча потерянных.
Я предпочитаю работу узкоспециализированную, насколько это возможно.
Я выполняю это задание уже шесть месяцев. Пишу уклончивые статьи. Веду блоги о наиболее крупных событиях. Передаю информацию, которая маскирует мои подлинные цели.
Мой издатель опасается, что меня возьмут на прицел. Но я-то знаю, что я уже на мушке.
Те, кто называет такие места лагерями, талантливо подменяет понятия. Это деревни или небольшие городки с цельной и постоянно развивающейся социальной структурой.
Это понимаешь сразу, при первом посещении подобного лагеря, когда задаешь неудачный вопрос какой-нибудь подозрительной личности. Да, конечно, жестокость есть везде — это качество, присущее любому человеческому анклаву, — но ведь существуют также и средства контролировать толпу.
Со сложившимся социальным устройством ничего не поделаешь. Как правило, все разговоры ведутся с вожаками лагеря — не с официальными лидерами, назначенными оккупационной властью (какой бы она ни была), но с фактическими лидерами, теми, кто требует дополнительной воды для лагеря, кто держит в узде подростков, которые воруют водород из цистерн, кто убивает случайных преступников (чтоб другим неповадно было, только ради этого).
Ты говоришь с вожаками и потом возвращаешься в унылый отель в мрачном и, что не редкость, разбомбленном городе, ложишься на жиденький матрац за тонкой деревянной дверью и благодаришь всех богов, каких знаешь, что у тебя есть работа. И что твой наниматель платит кучу денег, чтобы обеспечить твою безопасность, и, наконец, что ты не принадлежишь к тем людям, с которыми сегодня встречалась.
Но иногда необходимо рискнуть и намного глубже проникнуть в это сообщество, вести переговоры с некими обитателями лагеря в одиночку, без чьей-либо помощи. Приходится угадывать, где находятся палатки избранных (на передней линии, ближе к пище), а где ютятся нищие и потерявшие надежду люди (в середине, здесь потоки нечистот шире, а запах самый убийственный). Есть и такие жилища, которые принадлежат париям; с ними никто не разговаривает, и ты станешь нечистой, если заговоришь с ними.
Несомненно, их палатки наиболее удалены от входа. Несомненно, эти люди живут в непосредственной близости от протекающих уборных.
Несомненно.
Что ж, остается наблюдать. Наблюдать и подмечать, каких мест сторонятся взрослые, как некоторые родители в жуткой панике хватают детей, чтобы утащить их отсюда.
Наблюдать.
Это единственный способ выжить.
Люди, на встречу с которыми я приехала, живут на задах медицинской части. Это строение состоит из площадки под тентом с открытыми боковинами, предназначенной для людей с легкими заболеваниями; за ней, в глубине располагается небольшое закрытое отделение для сложных случаев, где есть кондиционер. Здесь нет никаких обозначений — ни кричаще-яркого красного креста, ни напоминающего лезвие косы красного полумесяца. Аббревиатура организации «Врачи без границ» тоже отсутствует, как и флаг какой-нибудь сочувствующей или нейтральной страны.
Просто медицинское отделение, которое наводит меня на мысль, будто этот лагерь настолько незначителен, что здесь находятся только представители различных благотворительных организаций. Всего несколько человек, зная, какие ужасы здесь творятся, выразили желание увидеть то, что сейчас вижу я.
Хотя я не собираюсь делать репортаж об ужасах и несчастьях.
Я здесь ради небольшой группки, находящейся внутри лагеря, анклава внутри анклава. Я должна встретиться с ними и уехать. Я пробуду здесь, вероятно, часов восемь — семь часов на беседу и час на отъезд.
Я понимаю, что, оказавшись за колючей проволокой, потом, возможно, не сумею найти машину, чтобы выбраться из лагеря. Придется еще раз кому-нибудь доверять или идти пешком.
Ни то ни другое меня не радует
Палатки в этом анклаве на удивление чистые. Полагаю, люди здесь потребовали все, что им нужно для жизни, и никто не посмел им возразить. На улочках нет детей, шлепками ладоней сгоняющих с себя насекомых. Нет детей с раздутыми животами или с истончившимися ручками и ножками.
Но в глазах у их родителей знакомая пустота. Та, что появляется, когда не осталось уже никаких иллюзий, когда люди понимают, что их бог либо требует от них слишком многого, либо покинул их навсегда.
Я стою рядом с палаткой, все заготовленные вопросы внезапно улетучились у меня из головы. За двадцать лет я ни разу по-настоящему не ощущала страха. Видимо, сейчас это время пришло.