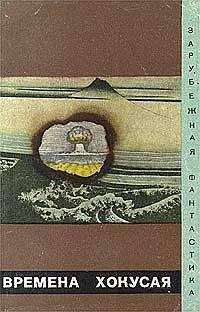С. ГАНСОВСКИЙ
Саке Комацу
ВРЕМЕНА ХОКУСАЯ
В отделе редких книг одной из библиотек мы с женой случайно нашли старинный альбом репродукций, изданный еще в двадцатом веке. В альбоме среди других работ были картины Хокусая. Они произвели на нас колоссальное впечатление.
— Потрясающе! — восторженно воскликнула жена. — Это же Фудзияма! Увидеть ее — моя мечта!
— К сожалению, неосуществимая, — возразил я. — В двадцать третьем веке, после страшного извержения, Фудзияма осела и деформировалась.
— Можно съездить в более отдаленную эпоху, до извержения, скажем в двадцатый век.
— В Японии двадцатого века стали вовсю развивать промышленность. Из-за дыма они там, вероятно, не видели дальше собственного носа, не то что Фудзияму. Ты же просматривала фотографии тех времен. Разве они сравнятся с этими репродукциями? Если судить по книгам путешественников, Япония тогда была ужасным местом: перенаселенным, с диким количеством автомобилей и никудышными дорогами.
— Но я решила и поеду в девятнадцатый век, во времена Хокусая, — неколебимо стояла на своем жена. — Неужели тебе не хочется увидеть эпоху королевской династии Эд… Эд… Эдвардов?
— Какой династии? Каких Эдвардов? Сегуната[1] Эдо! — поправил я. Жена вечно все путала.
Было решено: отпуск мы проведем в Японии девятнадцатого века. Честно говоря, я побаивался этой поездки. Жена сравнительно недавно получила права управления машиной времени, да и то, мне кажется, лишь потому, что воздействовала на экзаменатора чудесным способом, доступным только женскому полу. В старину, если не ошибаюсь, этот способ именовался «чарами». Водила она машину средне и свободно могла ошибиться на два-три столетия. Но главное, взятая нами напрокат машина с вездеходным устройством оказалась подержанной и ненадежной.
— Положись на меня! — весело подбадривала меня жена. Интервью с Хокусаем у нас в кармане!
Я был далек от оптимизма.
Но вопреки моим опасениям машина благополучно села на водную поверхность какого-то пустынного залива, и я, честно говоря, вздохнул с облегчением. Здесь было спокойно: ни реактивных тихоокеанских лайнеров, ни турбовинтовых катеров, ни моторных лодок.
— Смотри, Фудзияма! — крикнула жена, прильнув к смотровому стеклу.
Вдали, окутанный тяжело нависшими облаками, тянулся сине-фиолетовый хребет японского архипелага. И где-то там, между небом и землей, точно какой-то фантастический мираж, парил конусообразный контур легендарного вулкана. Его пологие, длинные склоны таяли в голубом мареве, а вершина сверкала, как алмаз.
Онемев от восторга, я долго любовался почти неправдоподобной строгостью пропорций Фудзи. До самой последней минуты я был уверен, что Хокусай и Хиросигэ идеализируют действительность и в их картинах реальный мир произвольно сочетается с творческой фантазией. Но нет, они были подлинными реалистами, эти художники! И все же это походило на сон.
— Гляди: дома! — замирая от восторга, произнесла жена. Деревянные… из бамбука… с соломенными крышами… А вон сосновый лес… Ну совсем как на картинах Хокусая!.. Правда?
Нет, должен сказать, Хокусай все же несколько приукрасил растительный мир. Мне вспомнились могучие сосны на его картинах. На самом деле деревья были чахлые, чудовищно искривленные и их корявые ветви почти стлались по земле. И все же они были прекрасны.
— Пересядем в лодку, — благоговейным шепотом произнесла жена, — и подъедем к берегу. Мне хочется посмотреть на людей эпохи Эдо.
Мы спустили лодку на воду и с приглушенным мотором, чтобы не нарушать священной тишины, двинулись в глубь залива по ровной, словно залитой маслом, водной глади.
По мере приближения лодки к берегу на нас медленно надвигались горы во всем своем древнем величии. Однако конусообразный склон Фудзиямы продолжал возвышаться над ним, точно мы стояли на месте.
Девственная, почти первобытная тишина родила во мне подозрение, что мы промахнулись и попали в более отдаленную эпоху.
Я посмотрел в телебинокль и увидел на берегу людей, одетых в коротенькие куртки-безрукавки и в плавки, называемые фундоси. Именно такими изображал своих современников Хокусай. На головах у них были намотаны какие-то тряпки.
Вскоре перед нашими глазами выросло огромное оранжевое плато. Вдали за ним простиралась бескрайняя холмистая равнина. По обе стороны залива, храня гробовое молчание, тянулись горы, вершины громоздились одна на другую. Они тонули в далеком мареве. А над ними по-прежнему, точно смеясь над расстоянием, возвышался величественный контур Фудзиямы.
Горизонт за равниной был слегка вздыблен едва различимой горной цепью.
Мертвая, первозданная тишина. Ни единого звука. Ни одной птицы.
— Здорово!.. Потрясающе здорово!.. — всхлипывая от восторга, прошептала жена. — Вот она — Япония Хокусая!.. Какая строгая тишина!.. Теперь я знаю, что такое «горчичность»!..
Она имела в виду «горечь и грусть», присущие старояпонскому искусству, но я не стал поправлять и просто крепко обнял ее за плечи.
Чуть в стороне от плато мы увидели устье реки и направили лодку туда. Низкое плато, простирающееся на десятки километров, оживляло этот суровый пейзаж. Вдоль узкой кромки берега, среди редких, худосочных деревьев, стояло несколько домишек, крытых почернелой соломой. За камышами виднелись вытащенные на берег лодчонки, изогнутые, точно слоновые бивни.
Ожившая картина Хокусая!
В устье реки мы заметили еще несколько лодчонок, а в верховьях даже белели паруса. Вода в реке была удивительно прозрачная — на дне виднелись рыбы.
Полуголый мужчина в треугольной соломенной шляпе, стоя в лодке, закидывал в прозрачную воду темную, словно нарисованную тушью сеть.
Мужчина, казалось, ничуть не удивился нашему появлению.
— Здравствуйте, — сказала жена, нажав предварительно на кнопку портативного электронного переводчика. — Что вы тут ловите?
Сеть казалась пустой.
— Рыбу, — ответил мужчина глухим голосом, не поворачивая головы, — белую рыбу. Слыхали? Ну такую махонькую, прозрачную, ее едят сырой.
Мы улыбнулись. В этой фантастической тишине человек на борту причудливо изогнутой лодчонки, ловивший сетью прозрачных маленьких рыбешек, казался персонажем из волшебной сказки.
— Можно здесь где-нибудь остановиться? — спросил я.
— Заезжих дворов поблизости нет, — ответил мужчина. Только деревня. Но народ там лютый, чужих не любит…
— А как называется деревня? — спросила жена, указывая рукой на домишки.
— Эдо.