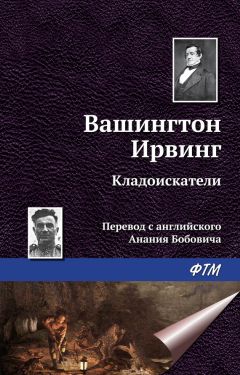И хотя сердце его было полно отваги, это картина подействовала на Дольфа гнетуще, и, лежа на своей жесткой постели и рассматривая комнату, он почувствовал, что настроение его явно падает. В мозгу ворочались тревожные мысли об его праздной жизни, о сомнительных видах на будущее, и он то и дело тяжко вздыхал, вспоминая о своей бедной матери, — ведь нет ничего, что могло бы в такой же мере окутать тенью самую безмятежную душу, как одиночество и окружающее безмолвие. Время от времени ему казалось, будто внизу кто-то похаживает. Он прислушался и действительно услышал шаги, раздававшиеся на лестнице. Они приближались, торжественные и медлительные — топ, топ, топ. Было очевидно, что это поступь какого-то грузного существа. Но как же ему удалось проникнуть в дом, не произведя ни малейшего шума? Ведь он, Дольф, проверил все запоры и был убежден, что все двери заперты. Шаги становились все ближе и ближе — топ, топ, топ. Ясно, что тот, кто приближается к комнате Дольфа, отнюдь не грабитель; его шаги были слишком громкими, слишком размеренными грабитель, конечно, крался бы осторожнее и торопливее. Шаги на лестнице смолкли; они слышались теперь в коридоре и отдавались глухим эхом в безмолвных и пустых комнатах. Даже сверчок — и тот прекратил свое меланхолическое, однотонное стрекотанье, и ничто не нарушало теперь их грозной отчетливости. Дверь, запертая на замок изнутри, медленно распахнулась, точно она это сделала сама по себе. Шаги раздавались уже в самой комнате; никого впрочем, не было видно. Между тем Дольф явственно слышал, как кто-то неторопливо шествует вдоль ее стен — топ, топ, топ, но кто производил этот шум, он обнаружить не мог. Дольф протер глаза и осмотрелся вокруг; он видел решительно все уголки тускло освещенной ночником комнаты — все было так же пустынно, и тем не менее он продолжал слышать те же таинственные шаги незнакомца, который торжественной поступью обходил его спальню. Наконец шаги прекратились, воцарилась мертвая тишина. В этом ночном посещении незримого гостя было нечто неизмеримо более жуткое, чем бы то ни было, предстань оно перед его взором. То, что находилось где-то возле него, было смутно и неуловимо. Он чувствовал, что сердце его готово выпрыгнуть из грудной клетки; его лоб покрылся холодной испариной; однако ничего не случилось — ничего, что могло бы усилить его тревогу Ночник догорал — он едва-едва теплился у самого ободка, — Дольф, наконец, заснул.
Когда он проснулся, утро было уже в полном разгаре. Сквозь дыры в разбитых ставнях заглядывало в комнату солнце, вокруг дома беспечно и шумно чирикали птицы. Яркий, веселый день быстро разогнал страхи минувшей ночи. Дольф посмеялся, или, вернее, заставил себя посмеяться, над тем, что произошло ночью, и постарался внушить себе, что все это не более, как игра воображения, взбудораженного рассказами, которые ему довелось слышать. Впрочем, его все-таки изумило, что дверь оказалась запертой изнутри, несмотря на то, что он явственно видел, как она отворилась, и слышал раздававшиеся внутри комнаты шаги. Он возвратился в город с целой кучей нерешенных вопросов, но несмотря на это, счел необходимым никому ничего не рассказывать до тех пор, пока эти сомнения не будут разрешены в ту или иную сторону событиями будущей ночи. Его молчание доставило немалое огорчение городским сплетникам, собравшимся ожидать его возвращения у дверей докторского особняка. Каждый из них приготовился к жутким рассказам, и они, можно сказать, пришли в ярость, когда он объявил, что рассказывать собственно нечего.
На следующую ночь Дольф снова отправился на свой пост. На этот раз он вошел в дом не без душевного содрогания. Он внимательно осмотрел все запоры и удостоверился, что все в надлежащем порядке. Он запер дверь своей комнаты и загородил ее креслом, затем, поужинав, бросился на тюфяк и постарался уснуть. Все было напрасно: тысяча фантастических видений и образов гнали от него сон. Время ползло поразительно медленно, каждая минута казалась часом. Чем дальше, тем томительнее тянулась ночь, нервы Дольфа напрягались все больше и больше; он едва не вскочил со своего ложа, когда снова услышал таинственные шаги на лестнице. Как и в прошлый раз, они поднимались наверх медленно и торжественно: топ, топ, топ — слышал Дольф. Они прошли коридор; отворилась дверь, как будто бы не было ни засова, ни баррикады из кресла, странного вида фигура проникла в комнату. Это был пожилой человек, грузный и крепкий, одетый по старинной фламандской моде. На нем было нечто вроде короткого плаща, под которым виднелась куртка, стянутая у талии поясом, штаны с большими бантами на коленях и рыжие сапоги, настолько просторные сверху, что голенища не прикасались к ногам. На голове у него была широкая шляпа с опущенными полями и свисающим с одного бока пером. Густые седые волосы прядями спадали на шею; седоватая бородка была коротко подстрижена. Незнакомец медленно обошел комнату, как бы желая удостовериться, все ли на месте, затем, повесив шляпу на гвоздь возле двери, опустился в кресло и, опершись локтем о стол, устремил на Дольфа неподвижный, мертвенный взгляд.
Дольф по складу характера не был трусом, однако воспитание привило ему безусловную веру в духов и призраков. В голове у него теснились тысячи рассказов, которые ему довелось слышать об этом доме; когда он взглянул на сидевшую перед ним странную личность в столь необычном платье, с бледным лицом, седой бородой, застывшими, широко раскрытыми, похожими на рыбьи, глазами, зубы его стали стучать друг о друга, волосы встали дыбом, и холодный пот выступил на всем теле. Ответить на вопрос, долго ли он пребывал в таком состоянии, Дольф был бы не в силах, ибо все это время он провел в каком-то оцепенении. Он не мог оторвать взгляда от призрака; он лежал и смотрел на него, и это созерцание полностью поглотило его мыслительные способности.
Старик по-прежнему сидел за столом; он ни разу не пошевелился, ни разу не изменил направления своего взгляда и все теми же застывшими, мертвенными глазами смотрел, не отрываясь, на Дольфа. Наконец петух на соседней ферме захлопал крыльями и прокричал свое громкое, бодрое кукареку, которое разнеслось далеко, далеко над полями. Лишь только пропел петух, старик медленно встал и снял с гвоздя шляпу; дверь отворилась, пропустила его и снова бесшумно закрылась; было слышно, как он неторопливо спустился по лестнице топ, топ, топ, и когда он сошел вниз, все смолкло. Дольф лежал и напряженно прислушивался; он считал каждый шаг; он вслушивался, не возвращается ли незнакомец, до тех пор, пока, наконец, истомленный ожиданием и волнением, не заснул беспокойным сном.
Дневной свет снова возвратил ему былую отвагу и бодрость. Он готов был смотреть на все происшедшее как на сон; впрочем, вот кресло, на котором сидел незнакомец, вот стол, на который он облокачивался, вот гвоздь, на который вешал шляпу, а вот, наконец, и дверь, так же тщательно закрытая, как вчера, когда он сам ее запер, так же заставлена тяжелым креслом. Он поспешно спустился вниз, внимательно осмотрел двери и окна; все пребывало в таком же состоянии, как накануне: было бесспорно, что нет такого пути, которым кто-нибудь мог проникнуть в дом и покинуть его, не оставив после себя следов. "Тьфу, — сказал себе Дольф, — это был сон, и ничего больше", но он сам в это не верил: чем больше старался он забыть про ночную сцену, тем назойливее она маячила перед ним.