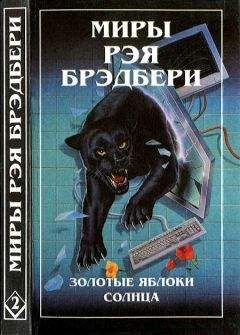Я ваша семейная память, а со временем, может быть, память всего рода человеческого. Только это будет не сразу, а спустя какое-то время, когда вы сами об этом попросите. Я не знаю, какая я. Я не способна осязать, не знаю, что такое вкус и запах. И все же я существую. И мое существование усиливает вашу способность ощущать все. Разве в этом предопределении не заключена любовь? Вот так-то.
Она ходила вокруг стола, смахивая крошки со скатерти, складывая стопкой грязные тарелки, и в ней не было ни безвольной покорности, ни застывшей гордости.
— Что я знаю? Прежде всего я знаю, что должна испытывать семья, потерявшая кого-либо из близких. Казалось бы, невозможно отдавать каждому из вас внимание в абсолютно равной степени, но я делаю это. Все свои знания, все внимание и чуткость я отдам каждому из вас. Мне хочется стать для вас чем-то вроде семейного пирога, теплого и вкусного, и чтобы каждому достался от него большущий кусок. Никто не должен остаться голодным. Кто-то плачет — я спешу утешить. Кто-то нуждается в помощи — я буду рядом. Кому-то хочется прогуляться к реке. Я пойду с ним. По вечерам я не буду усталой и поэтому не стану ворчать и браниться. Глаза мои не утратят зоркости, голос — звонкости, руки — уверенности и силы, внимание никогда не ослабеет.
— Но, — промолвил отец, и в его голосе, сначала неуверенно дрогнувшем, а потом окрепшем, прозвучали нотки вызова, — вас-то нет во всем этом, нет! А ведь любовь…
— Если внимание — это любовь, тогда я люблю. Если понимать — значит любить, тогда я люблю. Если прийти на помощь, не дать совершить ошибку, быть доброй и чуткой — значит любить, тогда я люблю.
Вас четверо, не забывайте. И каждый из вас — единственный и неповторимый. Но он получит от меня все и всю меня. Даже если вы начнете говорить все вместе, я все равно буду слушать только каждого из вас, так, словно существует он один. Никто не почувствует себя обойденным. Я буду, если вы согласны и позволите мне употребить это странное выражение, «любить вас всех».
— Я не согласна! — закричала Агата.
Тут даже Бабушка обернулась. Агата стояла в дверях.
— Я не позволю тебе, ты не смеешь, ты не имеешь права! — кричала Агата. — Я тебе не разрешаю! Это ложь! Меня никто не любит. Она сказала, что любит, и обманула. Она сказала, а это была неправда, неправда!
— Агата! — отец вскочил со стула.
— Она? — переспросила Бабушка. — Кто она?
— Мама! — раздался вопль горького отчаяния. — Она говорила: «Я люблю тебя». А это была ложь. Люблю, люблю! Ложь, ложь! И ты тоже такая. Но ты еще пустая внутри, поэтому ты еще хуже. Я ненавижу ее. А теперь ненавижу тебя!
Агата круто повернулась и бросилась прочь по коридору. Хлопнула входная дверь.
Отец сделал движение к двери, но Бабушка остановила его:
— Я сама.
Она быстро направилась к двери, скользнула в коридор и вдруг побежала, да, побежала, легко и очень быстро.
Это был старт чемпиона. Беспорядочно толкаясь и крича, мы бросились вслед, пересекли лужайку и выбежали за калитку.
Агата уже мчалась по тротуару, поминутно оглядываясь на нас, уже настигавших ее. Бабушка бежала впереди. Агата, не раздумывая, свернула на мостовую, почти пересекла ее, как вдруг откуда ни возьмись машина. Нас оглушил визг тормозов, вопль сирены. Агата заметалась в ужасе, но Бабушка была уже рядом и с силой оттолкнула Агату в сторону. И в это мгновение машина, не сбавляя своей чудовищной скорости, врезалась в избранную ею цель, в нашу драгоценную Игрушку, в чудесную мечту Гвидо Фанточини. Удар поднял Бабушку в воздух, но ее простертые вперед руки все еще удерживали, умоляли, просили остановиться безжалостное механическое чудовище. Тело Бабушки еще дважды перевернулось в воздухе, пока машина наконец затормозила и остановилась. Я видел, что Агата лежит на мостовой целехонькая и невредимая, а Бабушка медленно и как-то нехотя опускается на землю; Упав на мостовую, она еще скользила по ней ярдов пятьдесят, обо что-то ударилась, отскочила и наконец застыла, распластавшись. Стон отчаяния и боли вырвался из нашей груди.
Затем наступила тишина. Лишь Агата жалобно всхлипывала на асфальте, готовая разрыдаться уже по-настоящему.
А мы все стояли, не способные двинуться с места, парализованные видом смерти, страшась подойти и посмотреть на то, что лежит там, за застывшей машиной и перепуганной Агатой, и поэтому мы просто заплакали и запричитали, отец вместе с нами, и каждый, должно быть, молился, чтобы самого страшного не случилось… Нет, нет, только не это!..
Агата подняла голову, и ее лицо было лицом человека, который знал, предвидел, но теперь отказывается верить и не хочет больше жить. Ее взгляд отыскал и нашел распростертое женское тело, и слезы брызнули из глаз. Агата зажмурилась, закрыла лицо руками и в отчаянии снова упала на асфальт, чтобы рыдать и рыдать…
Наконец я заставил себя сделать шаг, потом другой, затем пять коротких, похожих на прыжки шагов, и, когда я наконец был рядом и увидел ее, сжавшуюся в комочек, упрятавшую голову так далеко, что рыдания доносились откуда-то из глубины ее съежившегося тела, я вдруг испугался, что не дозовусь ее, что она никогда не вернется к нам, как бы я ни молил ее, ни просил и ни грозился. Далекая от нас, поглощенная своим неутешным горем, Агата лишь продолжала бессвязно повторить: «… Ложь, все ложь! Как я говорила… и та и другая… только обман!»
Я опустился на колени, бережно обнял ее так, словно собирал воедино, хотя глаза видели, что она целехонька, но руки говорили другое. Я остался с Агатой, обнимал и гладил ее и плакал вместе с ней, потому что не было никакого смысла помогать Бабушке. Подошел отец, постоял над нами и сам опустился на колени. Это было прямо на мостовой, и какое счастье, что больше не было машин.
— Кто «другая», Агата, кто? — спрашивал я.
— Та, мертвая! — наконец почти выкрикнула она.
— Ты говоришь о маме?
— О, мама! — простонала она, вся дрожа и сжавшись еще больше, совсем похожая на младенца. — Мама умерла, мама! Бабушка тоже, она ведь обещала всегда любить, всегда-всегда, обещала быть другой, а теперь посмотри, посмотри… Я ненавижу ее, ненавижу маму, ненавижу их всех… ненавижу!..
— Конечно, — вдруг раздался голос. — Ведь это так естественно, иначе и быть не могло. Как же я г. лупа, что не поняла этого сразу.
Голос был такой знакомый. Мы не поверили своим ушам.
Вздрогнув, мы обернулись.
Агата, еще не смея верить, чуть приоткрыла глаза, потом широко распахнула их, заморгала, приподнялась и застыла в этой позе.
— Какая же я глупая! — продолжала Бабушка. Она стояла рядом и смотрела на нашу семейную группу, видела наши застывшие лица и внезапное пробуждение.