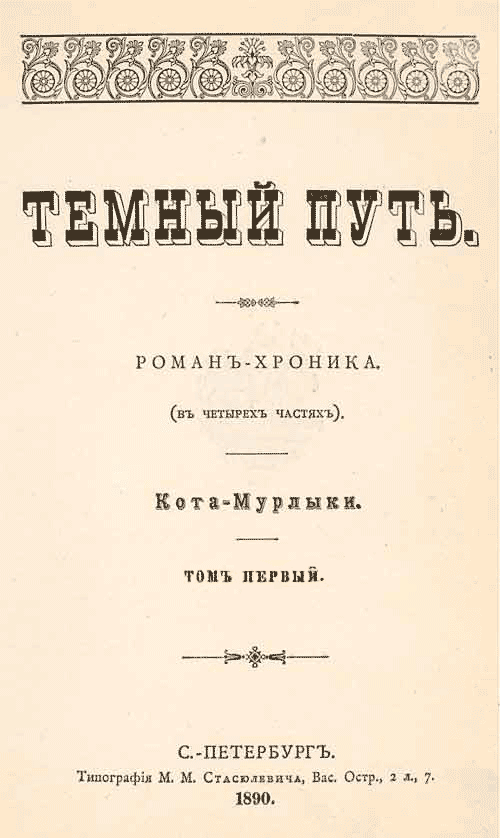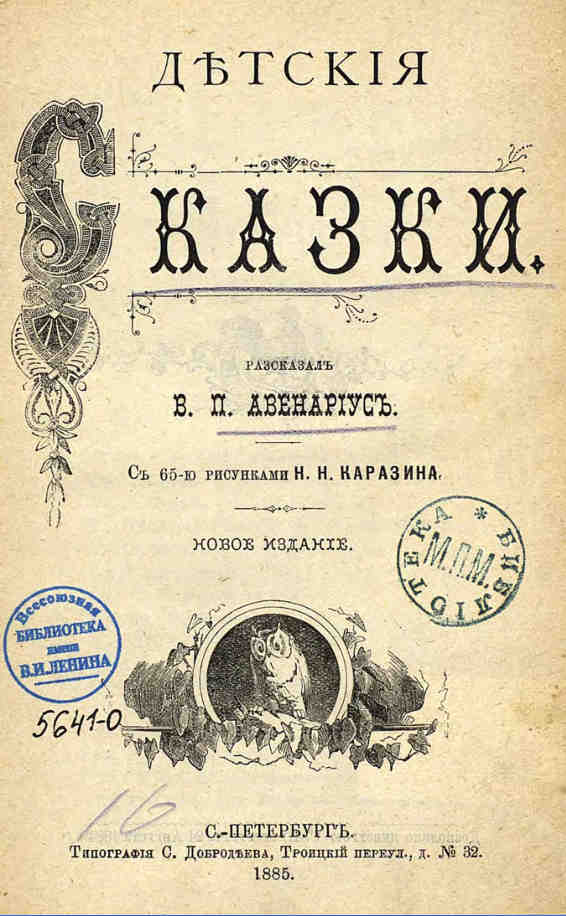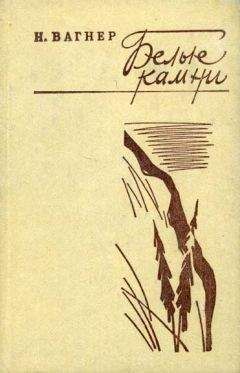я сношений с каким-то англичанином, фамилию которого я теперь забыл. Допрос продолжался часа полтора, но мне казалось, что он тянется целое утро.
Ночью, только начало светать, часу во втором, меня разбудили громкие шаги, стук прикладов, команда. Двери отперли, и ко мне вошел жандармский офицер, приподнял фуражку и проговорил:
— Извольте одеваться поспешнее. Вас сейчас перевезут.
— Куда?
Он пожал плечами и тихо сказал:
— Мы не имеем ни права, ни обязанности отвечать вам.
Я быстро вскочил, оделся. За дверями ждали нас двое солдат с ружьями и двое жандармов. По длинному коридору меня повели на задний двор гауптвахты, где стояла маленькая черная каретка с железными решетками вместо окон. Дверцы отворили. Меня ввели. Подле меня сел жандарм, напротив другой, и карета покатилась.
«Странно! — подумал — я. — Меня везут, точно государственного преступника».
Был уже ясный, солнечный день, и солнце взошло довольно высоко, когда мы въехали в Петербург, и каретка запрыгала по камням мостовой.
Мои часы остановились, и я обратился к жандарму с просьбою сказать мне, который час. Он посмотрел на меня пристально и промолчал.
Я обратился к другому и получил от него ответ:
— Нам не приказано разговаривать с вами.
Я пожал плечами и замолчал. Странно! Как будто бы можно было узнать что-нибудь от преступника, когда с ним не разговаривают? Или, может быть, они не надеются на стойкость жандармов?
Мне осталось рассматривать пыльные пустынные улицы Петербурга, что я и делал сквозь мое окошечко, загороженное решеткой. Но почти на каждом шагу меня встречал такой отчаянный толчок, что я вскоре принужден был отказаться и от этого развлечения. Вероятно, карета была на плохих рессорах, а может быть, и вовсе без рессор.
Часа через полтора этой адской езды мы снова выехали на шоссе, и я скорее догадался, чем узнал, что меня везут мимо парка на Петербургской стороне. Через полчаса каретка снова запрыгала по мостовой и въехала через подъемный мост в Петропавловскую крепость.
Мне показалось, что мы въехали в какую-то темную яму. Сердце у меня сжалось, и мороз пробежал по коже при воспоминании о тех ужасах (вероятно, вымышленных), о которых рассказы ходили тогда в Петербурге об этом страшном месте заключения.
Зазвонил звонок, и каретка несколько раз повернула и подъехала к какой-то двери, у которой стоял караул. Меня, дрожащего и от бессонной ночи, и от утреннего холода, от которого я не успел еще согреться, вывели и повели по длинному, темному коридору, по которому направо и налево были маленькие двери с решетчатыми окошечками, и около каждой этой двери стоял часовой с ружьем.
Мы остановились у одной такой двери. Унтер-офицер, шедший впереди, громко прокричал:
— Номер 42.
А жандармский офицер, шедший впереди меня, записал что-то в книжечку. Унтер-офицер отпер двери. Жандармский офицер вошел первый и пригласил меня следовать. Я вошел.
— Я должен вас предупредить, — обратился он ко мне со сладкой улыбочкой, — что у нас всякие переговоры с часовыми со стороны заключенных строго воспрещены. Для ваших потребностей вы имеете право обращаться к смотрителю и дежурному офицеру, который каждый день в 10 часов обходит все камеры.
Затем, любезно поклонившись мне, он вышел, а за ним удалились два жандарма с саблями наголо, которые сопровождали меня.
Двери захлопнулись, защелкал замок, раздалась команда, застучали приклады, послышались мерные удалявшиеся шаги, тише, тише, и все замолкло.
Я остался один в небольшой высокой комнатке с крохотным окном, в котором была вделана толстая решетка, в комнате с серыми, сырыми стенами из гранита… Три шага вперед, три шага назад… Слезы застилали мне глаза. Я упал на жесткую постель, покрытую одеялом из серого солдатского сукна, и горько зарыдал.
Причина моего заключения, или, собственно говоря, переселения в Петропавловскую крепость, с одной стороны, несколько разъяснилась для меня на другой день, но с другой — еще более запуталась и покрылась мраком.
В одиннадцать часов меня с конвоем провели по длинным, изогнутым коридорам в присутствие, то есть в канцелярию для допросов, и, таким образом, меня без малого в три дня подвергнули трем допросам в трех разных комиссиях. На этот раз я подпал под допрос комиссии, которая имела в руках, очевидно, гораздо больше данных для следствия и была гораздо полнее составлена.
За длинным столом, покрытым черным сукном, на котором стояло высокое зерцало, сидело семь человек под председательством высокого, седого генерала, который говорил глухим, каким-то гудящим басом.
Меня подвели к самому столу и поставили напротив генерала.
— Молодой человек, — глухо и медленно заговорил он, как бы отчеканивая каждое слово. — Мы читали данные вами показания при предыдущих допросах и находимся теперь вынужденными, ввиду вновь полученных сведений, подвергнуть вас новому, строжайшему допросу. При этом я должен предупредить вас, что мы рассчитываем на вашу полную откровенность, что только чистосердечное раскаяние и полное, искреннее признание в содеянном преступлении могут избавить вас от тягчайшего наказания…
Он немного промолчал, прокашлялся и начал снова еще тише и глуше:
— Из числа ваших знакомых в П. вы назвали Сару Гольдвальд и Карла Кельхблюма, — но вы умолчали о гг. Юркенсоне, Штурцмайере, Вильбрейхе, Блюментале, Херцштейне и многих других.
Он замолчал и как-то сонно, не спуская глаз, смотрел на меня из-под нависших седых бровей.
— Ваше пр-ство, — сказал я, — я имел дело с господином Юркенсоном по закладу моего имения, но я в первый раз слышу те фамилии, которые вы изволили назвать, и никогда не был знаком со всеми этими господами.
Генерал не вдруг ответил.
— Молодой человек! — начал он внушительно. — Подумайте о том, что я вам говорил, серьезно подумайте. Вашим чистосердечным признанием вы докажете искреннее раскаяние и дадите нам право ходатайствовать о снисхождении вашей участи. Вы были знакомы и весьма знакомы со всеми этими господами. Нам это все доподлинно известно. Все это были ваши сообщники, которых вы при помощи связей привлекли к преступному заговору, прямо угрожавшему основам государства. Нам все известно, и мы прямо обвиняем вас в иудофильском заговоре, который имел целью подчинить Российскую империю еврейской гегемонии…
Обвинение это было для меня до того неожиданно, странно, дико, сумасбродно, что я едва мог собраться со словами и отвечать на него.
— Ваше пр-ство, — вскричал я с запальчивостью, подходя вплоть к столу и смотря пристально на генерала. — Я никогда ни в каких заговорах не принимал никакого участия, вот вам Бог свидетель, — я указал на небольшой образ Спасителя, висевший в углу.
Генерал пристально и довольно долго (как мне показалось) посмотрел на меня