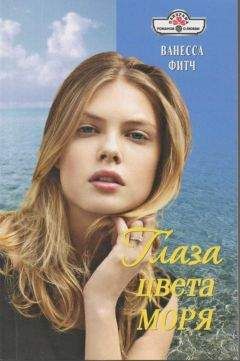Возбуждение сотника передается нукерам. Они хватаются за оружие, размахивают над головами кривыми саблями, секирами, копьями. Яростные вопли оглашают площадь. С виселиц, лениво взмахивая крыльями, поднимаются стаи стервятников.
С каким-то непонятным равнодушием Симмонс наблюдает за выходящими из минарета. Рабы еле держатся на ногах от истощения. Это уже не люди, а какие-то кошмарные пародии на людей, словно сошедшие с гравюр Дорэ. На изможденных лицах застыло одинаковое выражение безразличия и тупой покорности.
Глядя на них, затихают даже озверевшие было нукеры. Зрелище действительно страшное. Вот один на выдержал: подогнулись колени, и человек с глухим стуком упал на четвереньки. Остальные идут мимо. Равнодушно, будто не замечая. Неужели бросят?
Симмонс машинально делает несколько шагоа вперед и наклоняется над беднягой. Протягивает руку, чтобы помочь. Раб поднимает голову, и его запавшие глаза вдруг вспыхивают злобным блеском.
— Ты?! — Раб медленно, с нечеловеческими усилиями поднимается на ноги. Глаза его горят, словно угли, жгут, проникают в самую душу. — Ты!..
Он пытается что-то сказать, но гнев душит его, не дает произнести ни слова. Собрав последние силы, раб плюет в лицо Симмонсу и, едва удержавшись на ногах, качаясь, точно пьяный, уходит вслед за товарищами.
Злорадно хохочут нукеры. Симмонс, не сводя глаз с удаляющегося раба, беззвучно шевелит губами, повтэряя одно и то же слово: «Савелий… Савелий… Савелий…»
…Рабов увели, подгоняя отстающих пинками и ударами копий. Пыльный смерч прошелся по опустелой площади, вскидывая и кружа мусор, какое-то тряпье. Закачались, ударяясь друг о друга, тела на виселицах. Багрово-красный диск солнца клонился к горизонту, отчеркнутый изломанной линией зубцов и плоских крыш. Где-то неподалеку залаяла-завыла собака, десятки других откликнулись ей, и над разоренным городом разразилась ужасающая какофония диких стонов, хрипа я визга.
Трепетный огонек чирака мигнул и погас. Симмонс продолжал неподвижно сидеть в темноте и такой же непроглядный мрак, как в худжре, царил в его смятенной душе. Теперь он даже не пытался искать выход из своего отчаянного положения: не то, чтобы смирился — нет, но всем его существом все больше и больше овладевало состояние тупого, парализующего волю безразличия.
Шумно вздыхали, смачно пережевывая жвачку, чудом уцелевшие верблюды во дворе караван-сарая, с тоскливым подвыванием лаяли псы в опустевших элатах[21] изувеченного города. Постепенно глаза привыкли к темноте, и справа обозначился стрельчатый свод двери: над Хивой вставала луна.
Смыкались от усталости веки. Симмонс привалился спиной к стене, вытянул ноги на жесткой камышовой циновке и незаметно для себя задремал. Пробуждение было ужасным. Он ощутил, как чьи-то липкие холодные пальцы стиснули горло, захрипел, тщетно силясь оторвать их от шеи, повалился на бок, извиваясь в мучительных конвульсиях и… проснулся в холодном поту.
Луна светила в дверной проем, отбрасывая на застланный циновками пол остроконечное серебристое пятно. В караван-сарае царила неправдоподобно глубокая тишина. Где-то очень далеко истерически хохотали и выли шакалы, но их вопли, вселяющие ужас вблизи, казались на расстоянии чем-то будничным и обыденным, не нарушали, а как бы оттеняли тишину лунной ночи.
Тревога не проходила. Бешено колотилось сердце. Симмонс стиснул зубы, провел по лицу ладонью и замер. Послышался шорох. Напрягаясь всем телом, Симмонс беззвучно встал с циновки и, затаив дыхание, приблизился к двери. Почудилось? Шорох повторился, ближе, явственнее. Кто-то, стараясь не шуметь, осторожно пробирался по галерее, на которую выходили двери худжр второго яруса.
Стремительная стая мыслей прочертила сознание. Симмонс прижался к стене возле самого дверного проема, чувствуя, как желудок сам собой поджимается под грудную клетку и тяжелеют, наливаясь кровью, кисти опущенных рук.
«Кто это может быть? — лихорадочно стучало в мозгу. Постоялец караван-сарая? Но тогда почему он идет крадучись? Боится? Кого? Ясно кого, — время смутное. Всякий может оказаться аламаном. Да и караван-сарай не охраняется. Ну, а если»… — Симмонса бросило в жар. С непонятно откуда пришедшей уверенностью он вдруг понял: тот, крадущийся вдоль стены, ищет именно его, Симмонса. Пальцы скользнули вдоль бедра, легли на рукоять бластера.
Крадущиеся шаги шелестели совсем рядом.
«Ну держись, — со злорадной решимостью подумал Симоне. Испепелю как миленького. В порошок. В прах летучий». Поднял руку с бластером на уровень пояса, нащупал пальцем спусковую кнопку. Не отдавая себе отчета, мысленно произнес: «раз, два…»
— Эрнст! — раскатом грома ударил по нервам еле слышный шепот. — Где ты, Эрнст? Не стреляй…
Бластер с глухим стуком упал на циновку. Окруженная ореолом лунного сияния, в дверях стояла Эльсинора.
…Он ощупью отыскал губами ее губы, дрожащие, соленые от слез, и замер в нелепой, неудобной позе: она лежала на диване, а он скрючился рядом, стоя на коленях, ощущая ладонями шелковистое тепло ее волос.
— Ты… — Он искал и не находил единственно возможные в эти мгновенья слова. — Ты…
Она молча плакала. В комнате стояла кромешная тьма, но он отчетливо представлял себе, как струятся по ее щекам ручейки слез, исступленно ловил их губами, стараясь не прикасаться к ее коже щетиной заросших щек и подбородка.
— Как ты нашла меня?
— Не знаю. — Она глубоко вздохнула. — Нашла и все.
— Но ведь ты… — Он покачал головой. — Ты даже не знала, в каком я столетии.
— Я не знаю, — повторила она. — Не спрашивай меня ни о чем. И зажги наконец свет.
Симмонс поднялся с колен, щелкнул выключателем, под потолком вспыхнула матовая люстра в виде морской раковины. Все здесь было таким же, как до его последней одиссеи: ковры, пластик, хромированное железо, хрусталь. Спокойные пастельные тона. Холодильник, утопленный в стенную панель. Стилизованные под резьбу по слоновой кости решетки кондиционеров. Две просторные красного дерева кровати под балдахином, диван, вращающееся зеркало с хитроумной системой подсветок, позволяющей видеть себя со всех сторон, я шкафчиком для парфюмерии. Письменный стол из мореного дуба. Симбиоз гостиной, спальни и кабинета, хаотическое смешение стилей разных эпох и народов.
Эльсинора приподнялась и села на диване, уронив в ладони лицо. Возле ее ног на ковре тускло поблескивала луковица времятрона, того самого, который вынес их из кровавой реальности Хивы 1728 года. Симмонс поднялся с колен.
— Люси, — позвал он, стараясь вложить в это короткое слово всю нежность, на которую только был способен.