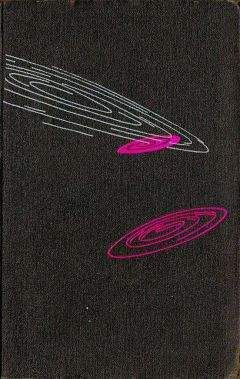— Ага, сейф…
— Знаем, слышали, — оборвал Юнца Фауст, какое ему было дело до Толстого и его запасов, у них с Профессором была еще собака. — Эту штуку никому не открыть… Взорвать тоже нечем, пробовали уже…
— Главного не слышали: Толстяк держит взаперти какого-то старика, который день и ночь бормочет шифры сейфа, чтобы не забыть. На свою память Толстяк не полагается, записывать боится или не умеет… Он приходил ко мне, предложил десять банок тушенки за самого памятливого из моих. Он боится, что старик скоро загнется. Ему нужен хранитель шифра…
— Говорят, у него есть оружие, у Толстяка…
— Ерунда! Если бы было, он бы пошел на войну.
— Ладно, подумаю, — протянул сонно Фауст. — Приходи в другой раз…
— Приду, — недобро усмехнулся Юнец, явно разочарованный результатами визита.
Среди прочих находок из соседнего дома оказалась пачка бумаги, лишь слегка обгоревшая по краям. Никуда не годная по мнению Юнца, для Профессора она оказалась большей ценностью, чем набор посуды. Фауст и прежде находил порой бумаги, только практической пользы от них не было. Скажем, когда ходил на восход и взбирался на развалины, он отыскал целую кипу бумажек. У Профессора даже руки затряслись при виде аккуратно обрезанных пачек, прихваченных Фаустом на растопку.
— Это же настоящие доллары, — бормотал он. — Это же деньги. Настоящие деньги. Много денег!
— Зачем это? — спросил его тогда Фауст.
— Раньше на них можно было купить что пожелается. А сейчас. Сейчас — не знаю, может еще где-нибудь ими пользуются?
— Что такое купить?
— Ну, выменять. За каждую такую банкноту ты получал определенное количество золота, а на золото мог взять дом, машину, яхту, даже жену…
— Купить жену — это как Индус? — осенила Фауста догадка.
— Примерно…
Индусом в их квартале звали высокого черноволосого старика. Тот долгое время жил один. Потом исчез надолго. Потом вернулся с молодой женщиной. Старик тот, возможно, и не был индусом. Он даже раньше обижался, если его так называли. Он утверждал, что он еврей и молится богу более древнему, чем все другие боги вместе взятые. Только это все было безразлично: еврей значило не больше, нежели индус. С равным успехом он мог кричать повсюду, что он русский или китаец. В начале войны, рассказывал Профессор, эти слова что-то определяли, потом забылись. Точно также потеряло смысл слово мутант: похоже, нынче труднее отыскать нормального, чем двухголового. Фауст поймал себя на этих отвлеченных мыслях и решил, что любопытно было бы взглянуть на абсолютно нормального, просто посмотреть и сравнить. Например, чтобы узнать, сколько у него пальцев на руках и ногах. Шесть и четыре, как у Профессора, или по три там и там, как у Гермов. Если меньше, то как они ими управляются, если больше, то зачем лишние? Вот у него — по пять, по крайней мере пара крайних ни к чему, можно было бы и без них…
Да, так вот Индус вернулся с женой. Красивой, непохожей на других женщин. Сказал, что купил. Хотел на ней зарабатывать. Думал продавать ее всем желающим с ней переспать. Только из этого ничего не вышло. Вокруг его лачуги несколько дней дежурили зеваки, надеясь взглянуть на дурака, пожелавшего бы расстаться с пачкой галет или убитой кошкой ради пяти минут удовольствия. Зевакам не повезло, как и Индусу. Дураков не нашлось. Тогда они, обманутые в своих надеждах, разгромили лачугу этого старика, убили его самого, женщину, правда, оставили жить: жизнь ее охранялась законом. Позабавились, кто хотел, и отпустили. Один из зевак захотел взять ее себе в жены, но ему проломили камнем голову. Это было справедливо: в демократическом государстве, где все равны перед лицом военной опасности, стремление урвать лучший кусок наказуемо…
Чистую бумагу Профессор взял с умыслом. Он предложил Фаусту заняться грамотой. Тот согласился. Ему казалось, что когда-то он умел читать и далее писать. Потом забыл. Потому что важнее было видеть, слышать, обонять, предчувствовать. Видеть, как мерцают в темноте глаза твоего вероятного убийцы. Слышать, как рвет воздух смертоносный снаряд, чтобы успеть спрятаться. Ловить носом первые молекулы отравляющих веществ, чтобы знать, куда бежать и где спасаться. Предчувствовать, когда ударит с неба кислотный ливень.
Фауст выучился читать за две недели. И тут же сделал несколько маленьких открытий.
Он прочитал объявление Юнца на уцелевшей стене его дома — то ли магистрата, то ли партийного комитета. Тот извещал жителей, что продолжает набор детей в возрасте пяти-тринадцати лет в отряд Всемирного Спасения. Объявление глупое. Потому что большинства попросту не умело читать. Потому что, как подозревал Фауст, детей такого возраста в мире вовсе не осталось. Разве что в самом отряде Юнца. Да и те произошли случайно, из пробирок.
Другой раз Фауст читал плакаты и транспаранты, которые носили участницы демонстрации. В демонстрации принимали участие около шестидесяти или ста женщин. Они в угрюмом молчании ходили вокруг их квартала. К палкам и кускам железной арматуры были прикреплены тряпки, исписанные где сажей, где краской. «Война — до победного конца!» «Даешь равноправие женщин!» «Мы хотим рожать!» «Нет убийствам и насилию!» «Все народы равны!» «Каждый должен стать бойцом!» «Нет — атому!»
Целых три дня демонстрация, возникшая почти стихийно, шествовала вокруг квартала. Точнее того, что было кварталом, если было когда-нибудь. Проходя по площади, женщины скандировали «Долой! Долой!» Потом шагали молча. И в третий день хлынул дождь. Участницы бросились врассыпную, сбивая друг друга с ног. — Дождь был умеренной силы: он только разъел тряпки и одежду на упавших и обжег их. Они извивались и кричали от боли. Потом все, Фауст подсчитал, двенадцать женщин, обнаженные, обожженные, помогая друг другу потащились в Западный квартал. Двигались молча. После них в лужах оставались пучки волос и клочья плавящейся кожи. Двое упали. Их оставили. Десять шли и знали, куда. В Западном, квартале не жили ни кошки, ни крысы, там питались человечиной. Об этом обычно старались не вспоминать. Эти десять вспомнили, надеясь найти быстрый конец.
Как-то утром на площади появилось восемь человек в форме войск охраны внутреннего порядка. С ними был мужчина в штатском — в пиджаке, брюках, белой рубашке, стянутой по горлу узким галстуком. Этот прилично одетый господин с помощью солдат взобрался на бетонный куб в центре, на котором прежде стоял памятник великому полководцу. Взрывной волной полководца снесло, а постамент остался. На его цоколе располагались обычно музыканты. Теперь на вершину взгромоздился человек с мегафоном в аккуратном костюме. Он стал призывать к себе народ. Через некоторое время внизу собралось человек двадцать, среди них и Фауст с Профессором.