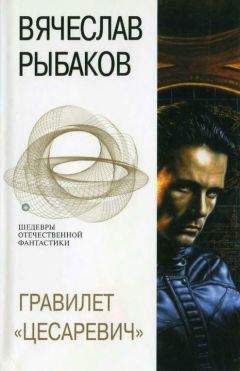– Тем лучше для нее, – ответил Дима.
Старичок переложил поводок из руки в руку, подышал на освободившуюся ладонь и спрятал ее в карман теплой куртки.
Сощурясь, всмотрелся под ветви. Дима улыбнулся.
– Незнакомый голос, – констатировал старичок. – Что это вы здесь поделываете?
– Отдыхаю, – искренне ответил Дима. – Больно вечер хорош.
– Сыроват, – с видом гурмана заметил старичок.
– Да, немножко, – согласился Дима.
Старичок побегал взглядом влево-вправо, а потом вытянул тонкую, трепетную шейку, заглядывая за скамью.
– Вы один отдыхаете?
– Ясно дело. Вдвоем – это уже не отдых.
– Сколько вам лет, молодой человек?
– Формально я возмутительно молод.
– Ну это главное… – старичок поежился. Нашел взглядом свою собачку. Пробормотал: – Пойдем-ка мы. Барри, кажется, замерз.
– По нему видно.
– Вы не любите животных?
– А что, похоже?
– В вашем голосе мне почудилось ирония.
– Я тигров люблю, – сообщил Дима.
– Я так и думал. Идем, Барри, – проговорил он заботливо, – пора баиньки. Пописал? – он опять полуобернулся к Диме. Он так и стоял к нему боком. – Со мной давно не говорили столь приветливо.
– Это не моя заслуга, – улыбнулся Дима.
Старичок покачал головой.
– Неправда.
Доходной, ледащенький Барри миролюбиво заурчал.
В парадной тишине возник торопливый, нервный перестук каблучков, и из-за близкого поворота, словно выброшенная угловым кустом сирени, возникла девушка, увидев старичка, она остановилась и требовательно спросила:
– Простите, как добраться до Уткиной заводи?
Старичок с секунду молчал.
– Запамятовал, – сказал он с явной хитринкой. – Быть может, молодой человек?.. – и сделал широкий жест в сторону Димы, как султан, развалившегося в тени. При этом задел напоенные влагой ветви, и на Диму обрушился короткий ливень.
– Ох, простите, – вздрогнув, покаянно сказал старичок.
– Ничего, – улыбнулся Дима. Почему-то в этом разговоре он все время улыбался. – Даже приятно. Я уважаю душ, настоенный на давно отцветшей сирени.
– Именно на давно отцветшей?
– Можно и на цветущей. Но тогда общефизиологическое воздействие совсем иного порядка, не для отдыха. Оно не вселяет негу, а возбуждает чувственность.
– Вы биолог?
– Что вы. Биологи полезные люди, а я тунеядец…
– Зачем же так самоуничижительно? – подойдя, с иронией спросила девушка, и Дима повернулся к ней. – Отвечайте по делу, а судить будем мы.
– Я художник, – медленно проговорил Дима, глядя на нее.
– Идем, Барри, – сказал старичок и неторопливо пошаркал к парадному, унося с собой необозримую рыхлую память о массовых митингах, массовых восторгах, массовых героизмах, массовых расстрелах, массовых выселениях, массовых предательствах, массовых смертях, массовых надеждах, массовых дряхлениях, сквозь клубящиеся бездны которых, чуть мерцая в темноте, как струйка ни в чем не виноватого и ничего не понимающего Барри, сочилась удивительно короткая его жизнь.
– То есть, учусь на художника, четвертый курс… вы не подумайте – так, маляр…
Она взглянула на него, искря стеклами очков.
– Я и не думаю. Маляр так маляр.
Она была как призрак, порожденный ночным маревом. Казалось, она светится. Казалось, она ничего не весит, не касается земли, плывет, над этим обыкновенным мокрым тротуаром, и каблучки ее стучат просто так, для виду, чтобы никто не понял, кто она такая.
Господи, да ничего в ней не было! Чистое легкое лицо, короткое платье, тонкие руки, открытые до плеч…
Она была как душа. Дима склонил голову набок, не в силах оторвать взгляд. Просто нельзя было не знать, как добраться до Уткиной заводи. Сегодня мой день, подумал он. Сердце вдруг взбесилось: казалось, не то что ребра – рубашка не выдержит и лопнет, вот сейчас лопнет…
– Автобусом, я только не помню, – сказал он, поднявшись со скамейки, – где останавливается восьмерка. Придется чуть-чуть поплутать…
Она смотрела на него. Ей было легче – она закрывалась очками, в них отсверкивал далекий фонарь.
– Может, на пальцах объясните, маляр?
Дима сделал беспомощное лицо.
– Сам буду искать, – извинился он. – Шестым чувством. Если вы устали, или не хотите с маляром идти рядом – я могу сбегать, а потом вернусь сюда и доложу, лады?
– Быстрее будет спросить кого-нибудь другого, – недовольно сказала она.
Секунду Дима стоял с разведенными руками, взглядом лаская ее настороженно сжатые губы, а потом вздохнул и уселся обратно.
– Это, несомненно, логично, – согласился он.
Она не могла уйти, он всемогущ. Только он должен выполнить ее просьбу. Она задумчиво вытянула губы в трубочку. Улицы были пусты. Окна гасли – то одно, то другое.
– И зачем вам так далеко! – спросил Дима.
– Не ваше дело, – резко ответила она, но не ушла, лишь с ноги на ногу переступила в нерешительности. Ноги стройно светили на фоне черного отблескивающего асфальта. Она перехватила его взгляд, издевательски спросила:
– Нравится?
Дима поднял глаза. Ее очки отсверкивали, как ледышки.
– Да, – виновато ответил он и опять чуть развел руками: дескать, что ж тут поделаешь. Она скривилась. Он поспешно добавил: – Вы не думайте, это у меня профессиональное.
– Профессиональное заболевание – сифилис, – едко сказала она. – Кто-то из ваших великих в принципе не мог нарисовать женщины, если с ней не переспал?
Дима тяжко вздохнул.
– Потрясающая эрудиция. Вы, простите, из искусствоведов?
– Нет, – ответила она. – Я спешу.
Дима вскочил.
– Да, конечно, шеф, – сказал он энергично. – Простите, я отвлекся. Засмотрелся, – добавил он. – Это вон туда. Бежим?
Она взъерошила маленькой пятерней свою короткую прическу. Решительно отрубила:
– Бежим!
И зацокала рядом с Димой, глядя только вперед, держась прямо и строго, как в строю. Дима смирил шаги – поначалу он и впрямь побежал от избытка чувств.
– Вы действительно спешите?
Она помолчала, потом ответила ядовито:
– Если бы я хотела прогуляться в обнимку до ближайшей парадной, я бы прямо сказала.
Дима всплеснул руками.
– Бога ради, не надо прямо! Если вас не затруднит, молчите, я сам догадаюсь.
– Повремените, – отрубила она.
Они неслись.
Город здесь не походил на себя. Был просторнее, темнее, свежее, земля влажно дышала; напоенный теплым туманом воздух создавал ощущение сна. Казалось, ночь южная; казалось, тропическая; казалось, самая главная в жизни.