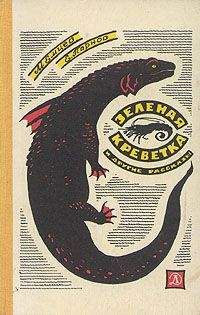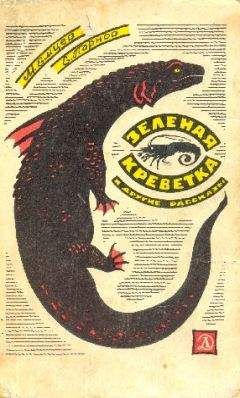Стараясь не разбудить жену, Юлиус на цыпочках прошел в кабинет и сел у стола, не снимая плаща. Он нащупал в темноте холодный и влажный стакан с молоком, выпил его и долго шарил по тисненому узору скатерти, отыскивая хлеб. На тарелке, покрытой салфеткой, он нашел кусок яблочного пирога, пахнущего кислым сырым тестом. Юлиус ел пирог, глядя в темноту широко открытыми глазами, перед которыми стояли лица судьи, Макса, Нигеля и еще каких-то людей. Собственная голова всегда казалась Крюге съемочной камерой, заполненной случайными, не очень нужными кинопленками. Сейчас память прокручивала перед ним кадры самого ужасного кинофильма в его жизни. И он сидел в первом ряду партера, наедине с этим проклятым племянником Зоммергеймера.
Художник встал, включил электричество, снял плащ и шляпу, бросил их в переднюю и задумчиво поскреб небритую щеку. Нужно было отвлекаться от холодной тоски и от мыслей. Спасение, как всегда и везде, можно было найти только в работе.
Юлиус окинул взглядом стены, на которых висело несколько его рисунков, и подошел к мольберту. Прикрытый большим газетным листом, он с утра неприкаянно стоял за софой, раздражая жену и соблазняя мальчишек на озорство.
Художник откинул газету и увидел недельной давности набросок головы старухи. Рисунок ему показался рыхлым и слабым, и Ганс захотел его переделать. Его сейчас мало интересовало сходство, и он решил придать портрету символический характер. «Старость». Пусть это будет портрет Старости вообще, Старости всего человечества сразу.
Пусть морщинистый лоб нависнет, как темная грозовая туча, над провалившимися глазами, похожими на потухшие угли. Пусть беззубый рот станет бездной, где исчезнет последняя улыбка. Пусть кожа на лице превратится в тусклый измятый пергамент. Пусть… Ганс увлекся, он рисовал Старость, символ старости.
Он работал до тех пор, пока не почувствовал боль в глазах. Фломастер стал делать произвольные не контролируемые штрихи, и художник резким движением прекратил работу. Он уснул здесь же, на софе, свернувшись калачиком и натянув на себя плотный пушистый плед.
Утром его разбудила жена и позвала завтракать. Ганс сидел за уютным столиком и с удовольствием вдыхал дымный запах черного кофе, когда вошел его старший сын и сказал:
— Мощный волк у тебя получился, папа.
"Какой волк?" Ганс промолчал, но ощутил беспокойство. Он стряхнул в чашку крошки кекса, прилипшие к пальцам, и вышел в свой кабинет.
Несколько минут он с недоумением смотрел на рисунок головы старухи, которую с таким старанием отделывал вчерашней ночью. Ее не было. Не было старухи в старомодном чепце, со старческими буклями и бесцветным взглядом.
Вместо этого на ватмане с величайшим искусством была изображена голова бешеного волка. Налитые черной кровью глазки смотрели на художника с беспощадной яростью. Между острыми, как кинжалы, ушами торчала вздыбившаяся шерсть. Образуя злобные морщины на носу, верхняя губа задралась, обнажив острые пирамидки зубов. В углах пасти белели мелкие блестящие пузырьки пены.
Юлиус резко повернулся и вышел. На вопрос жены, что случилось, он отвечал:
— Пустяки.
Руки у него дрожали. Он почувствовал, что с этой минуты у него начинается новая жизнь, не похожая на его прошлое безоблачное существование, жизнь тяжелая и страшная.
Он пытался остаться в стороне в тридцать третьем, ушел от действительности в сороковом, втянул голову в черепаший панцирь после разгрома. Теперь жизнь требовала у него ответа: с кем вы, художник Юлиус Крюге?
Пытаясь сохранить и удержать ускользающее настоящее, художник заперся с сыном в кабинете. Он посадил мальчика в удобную и легкую позу и стал лихорадочно набрасывать его голову.
Ему казалось, что все идет хорошо; объект рисунка был знаком до последней черточки, до самого незаметного изгиба волос. Эти миндалевидные глаза и шелковистые щеки Юлиус рисовал десятки раз. Автоматическим движением руки вывел прихотливый изгиб пухлых губ, в несколько штрихов расположил легкие прозрачные тени.
Рисунок был готов, Крюге ручался за сходство и знал, что рисунок получился.
Он сел в кресло, в изнеможении свесив руки. Сын стоял за его спиной и смотрел на работу отца. И Крюге вдруг услышал обиженный и возмущенный детский голос:
— Папа, ну что же это?
И тогда он увидел, что лицо ребенка на рисунке стало неуловимо, чудовищно изменяться: рот и нос вытянулись вперед, лицо покрылось шерстью, глаза сжались и превратились в маленькие горячие угольки.
— Волк!
Художник выбежал из кабинета. Обнимая плачущую жену, он гладил трясущимися руками ее волосы и говорил:
— Ничего, Марта, ничего… Я надломился, но это пройдет, мы разберемся.
Но «оно» не проходило, а разобраться было трудно. Что бы ни делал в эти дни художник, к чему бы ни прикасались его искусные пальцы, везде — на холсте, бумаге или картоне возникала отвратительная морда бешеного волка. Она производила угнетающее впечатление не только на самого автора. Все поражались неистовой сатанинской злобе, исторгаемой взглядом животного.
Казалось, если бы эта тварь могла, она сейчас же вцепилась в глотку всему человечеству.
Собственное горе так сильно потрясло Крюге, что он совершенно забыл о Максе. Художник ходил по комнатам своей квартиры и твердил про себя: "Неужели я сошел с ума? Неужели?"
Никто не мог помочь ему. Врачи находили его вполне здоровым и советовали отдохнуть.
* * *
Судья и прокурор получили из Бонна недвусмысленные указания немедленно прекратить процесс.
Поднятый в прессе шум по поводу робота-оберштурмбанфюрера все равно не унять. Поэтому пришлось делать хорошую мину при плохой игре и оправдать Штаубе за отсутствием состава преступления. "Делом Штаубе" заинтересовались высокопоставленные лица из военного министерства и кое-кто за океаном. Идея робота-убийцы, автомата-палача показалась заманчивой.
В промышленных кругах поговаривали даже, что будут отпущены солидные кредиты на исследовательские цели. Конвейерное производство "идеальных солдат" покрыло бы любые затраты.
В эти дни камера Макса превратилась в зал свиданий. Здесь бывали и бизнесмены, жаждущие купить тайну создания самого совершенного робота, и корреспонденты, ищущие сенсаций, и ученые, предлагавшие свои услуги. Чтобы сразу разделаться с ними, Макс решил устроить нечто вроде пресс-конференции.
— Господа, — сказал он, когда собравшиеся с большим трудом втиснулись в его камеру, — не задавайте мне вопросов. Я все расскажу сам… Став доктором философии, я заинтересовался проблемами автоматики. Изобретательство всегда было моим коньком, и я решил построить логическую модель человеческого организма.