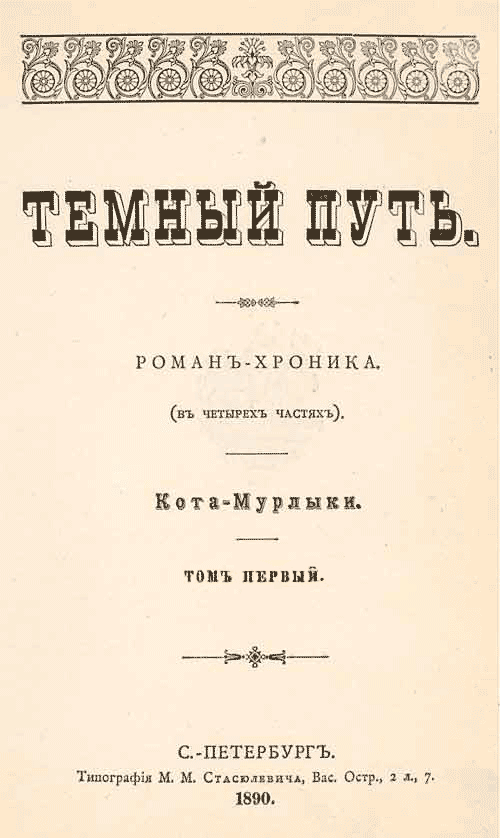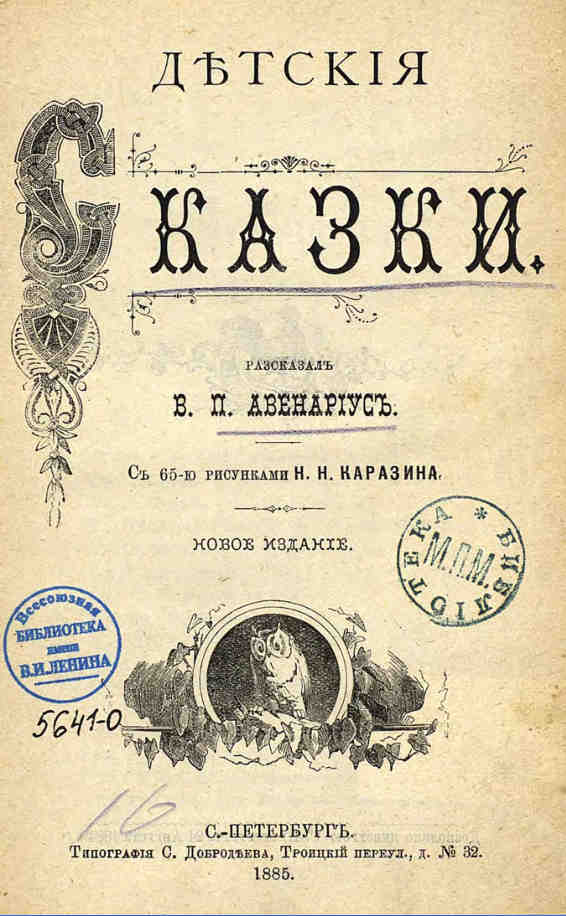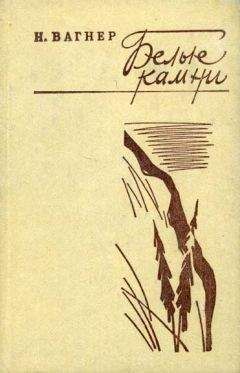впадал в обморок, и под конец меня уже не вели, а несли — несли несколько солдат и принесли в полковой лазарет.
В лазарете мне в первый раз привелось привыкать к солдатским удобствам жизни, хотя эти удобства и не применялись ко мне во всей их законной строгости. Меня продержали в лазарете около двух недель. Почти с первых же шагов этой лазаретной жизни я был окружен офицерством, которое было радо мне как развлечению среди непроходимой скуки крепостной жизни. Почти каждому привелось мне отдельно рассказать, как и за что я был отдан в солдаты, и каждый пришел к тому заключению, что тут ничего не поделаешь и такова моя участь.
— Какая же участь, помилуйте, — возражал я штабс-капитану Тручкову, человеку весьма солидному, но недальнему. — Тут не участь, а явная несправедливость. Если бы приняли во внимание все обстоятельства и сопоставили бы с одной стороны этого подлеца, который убил мою мать, а с другой…
— Позвольте, позвольте, батенька! — перебил меня Тручков. — А вы почему же думаете, что все это не принято во внимание и притом сугубо? Вы почему думаете, что ваша история с жидами не положена здесь на весы и что на вас не смотрят, как на человека весьма подозрительного и крайне вредного? Ведь для таких людей самое действительное лекарство считается «погибельный Кавказ».
При этих словах у меня вдруг явилась мысль, которая до тех пор мне ни разу не представлялась.
Надо сказать, что в эти две недели я написал три длинных письма к Лене и два к Надежде Степановна. Я просил и молил их написать мне хоть две строчки, я писал им, что я ко всему приготовлен, что бы ни случилось. «Мне кажется легче, — писал я к Лене, — перенести твою смерть, чем то отчаянное состояние неизвестности, в котором я теперь живу день за день, ожидая с часу на час громового удара…»
На все эти письма, как говорится, ни ответа, ни привета. Правду сказать, мы вообще не были избалованы письмами. Но на этот раз, как нарочно, каждую неделю аккуратно являлась посылка с письмами из главной квартиры. Приносили письма к моим соседям, а мне ничего.
— Послушайте, капитан, — спросил я Тручкова, — а могут письма, адресованные сюда, пропадать где-нибудь?
— Редко, но пропадают.
— То есть как редко?
— А вот, если бы вы были присланы под особый надзор, как офицер неблагонадежный, то вы бы могли и вовсе не получить ни одного письма.
— Да ведь я не офицер, а простой солдат.
— Это, батенька, все равно. Все равно, если и простой солдат, да поднадзорный, то он будет получать все письма через коменданта, а комендант имеет право и не отдать то, что он считает вредным для дисциплины крепостных войск.
При этом известии мое сердце сжалось. «Неужели письма от Лены, — подумал я, — лежат у него, у грозного Григория Анфилатыча?!» (Настоящее прозвище его было Амфилохич, но солдаты, а за ними и офицеры переделали его в Анфилатыча, на что он, впрочем, нимало не обижался.)
Я лежал в небольшом, низеньком покое походного барака, сколоченного на скорую руку, и вместе со мной лежали два юнкера и один офицер, весьма угрюмый малый, по фамилии Перезеркин.
В тот же вечер, в который у меня был разговор с Тручковым, я обратился к Перезеркину с вопросом: нельзя ли как-нибудь узнать, нет ли ко мне писем у коменданта?
— А вот завтра придет сюда Семен Иваныч, наш квартирмейстер, так мы от него попробуем узнать. Он закадычный приятель и правая рука Анфилатыча.
Квартирмейстер действительно пришел и обещался узнать. Затем прошло несколько дней тяжелого ожидания, и раз вечером он опять пришел к нам.
— Хорошо, что догадался спросить, — весело сказал он мне, — а не то друг Анфилатыч недоумевал, отослать ли ваши письма назад или передать вам. Очень уж смущал его французский язык, в котором он ничего не понимал. Я, разумеется, разуверил его, что письма ничего опасного для военного положения не представляют. Вот получите!
И он подал мне два письма — одно распечатанное, другое нераспечатанное.
Я схватил их дрожащими руками. Оба письма были от Лены. Кровь быстро прилила к моему лицу.
— Да вам следует ли еще отдавать эти письма? — спросил Перезеркин. — Надо бы того… доктора… Василья Ивановича спросить сперва.
Но я уже весь погрузился в письма. Только досадные слезы застилали глаза и мешали читать.
Одно письмо было написано вскоре после моего от отъезда, другое спустя две недели, и оба письма написаны из моей деревни. Эти письма раскрыли мне такие черты в характере Лены, каких я не ожидал и не предполагал в моей «дорогой сестре» — в этой доброй и тихой девушке.
«Дорогой мой, милый, — писала она, — я знаю, ты исстрадался, а я измучилась за тебя. Но судьбе, видно, не угодно еще, чтобы мы свиделись. Я долго думала прежде, чем решилась остаться здесь. С одной стороны, я думала; как я брошу и не поддержу тебя в твоем изгнании, тебя, может быть, больного душою и телом? Но я подумала, что дело, для которого ты рисковал всем — это дело должно быть дороже для тебя всего на свете; это дело — расследование убийства твоей матери. Я думала, если я брошу это дело и полечу к моему милому, дорогому изгнаннику, то не будет ли мучить его совесть и не упрекнет ли он меня когда-нибудь в том, что я бросила на произвол чужих людей дело, для него священное. (Отец твой хотя также здесь, но ты знаешь, что он все равно что чужой.) Но должно тебе сказать, что вскоре после твоего ареста мы с мамой узнали, что Высочайше назначено расследовать этого дела, и для того послан генерал-адъютант Г., а к нему прикомандирован жандармский полковник С. Услыхав это, я уговорила маму ехать к тебе в деревню и, насколько мы можем, следить за следствием и помогать ему. Я не буду писать тебе, каких душевных усилий мне это стоило. Но я сказала: это должно быть так; иначе я поступлю бесчестно и сделаю его, моего дорогого, бесчестным. И я осталась. Я уверена, дорогой мой, что твоя совесть оправдает меня. Да, впрочем, и оправдывать меня не в чем…»
Я не мог далее читать. Голова моя кружилась. Грудь сдавило. Это была борьба совести с сердцем, и в этой борьбе совесть, к чести ее, вышла победительницей.
О!