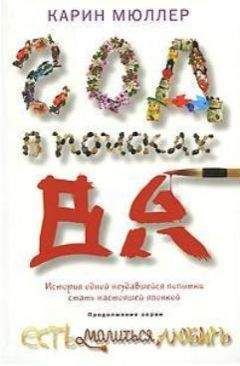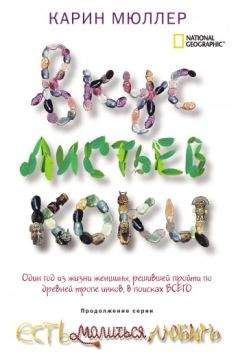Но лай не прекращался. И чей-то до боли знакомый голос все звал и звал:
— Максим! Максим! Где ты? Откликнись!
Он нехотя открыл глаза, с трудом приподнял голову, Сейчас все исчезнет… Но нет:
— Максим!.. Боже, как ты забрался туда?! Что ты там делаешь? Ты слышишь меня?
Он глянул вниз. Таня?! И сразу все застлало густым туманом. Максим зажмурил глаза, открыл снова. Таня! Он провел языком по распухшим кровоточащим губам:
— Таня… — но голос не подчинялся ему. — Таня…
— Максим, милый, что с тобой? Почему ты молчишь? Ты ранен?
Он сделал последнее усилие:
— Таня… Я здесь… третий день… без воды… опыт не удался… и вот…
— Максим, родной мой! Потерпи, я сейчас же на кордон за людьми. Ты слышишь меня? Я бегом!
— Постой… Как ты… узнала? Кто послал тебя?..
— Никто, я сама. Вчера истек срок, когда ты должен был вернуться из тайги, и мне следовало отправить твое письмо. Но я не могла. Я не могла, Максим. Я узнала, что ты заходил к дяде Степану, выпросила у него Дружка и еще ночью пошла по твоим следам. И вот — счастье! Потерпи немного! Я мигом.
Через минуту она скрылась за деревьями. Максим прижался лицом к камню. Рыдания душили его. Но слез не было. Как не было и слюны, чтобы смочить воспаленный язык.
Дальше было сплошное забытье. И рой бессвязных мыслей. Мог ли он быть уверенным, что действительно видел Таню? А не все ли равно… Только бы перестала качаться проклятая гора, и улетели эти ужасные шмели. Он прогнал бы их, если бы смог двинуть рукой…
А снизу снова кто-то зовет его. Нет, хватит! Больше он не поднимет головы. К чему обманывать себя. Да люди и не могут так громко говорить. Так может грохотать только гром. Если бы в самом деле гром! И дождь… Но гром не знает его имени. А тут:
— Максим! Максим Владимирович! Колесников! Макси-и-им!
Нет, это не кончится никогда. Он поднял голову, глянул вниз. Люди, люди… Откуда их столько, зачем? И снова:
— Максим! Слушай! Ничего не говори, только слушай! Сейчас мы пошлем с ракетой туда к тебе бечевку. Пригни голову и не пугайся. Лови!
Он послушно приник к камню. Яркая вспышка. Хлопок. Долгое тягучее шипенье. И режущая боль в спине.
— Ой! — Но боль привела его в сознание. Он понял, что бечевка врезалась в спину. Значит, и голоса, и люди — все на самом деле. Он протянул назад руку, нащупал тон кую капроновую лесу.
Голос снизу:
— Поймал?
— Да, да! — замотал он головой, не в силах разжать губ.
— Теперь тяни потихонечку. Это вода.
Вода?.. Возможно ли? Вода! Он снова упал на живот, ухватился за лесу обеими руками.
— Тише, тише, не дергай! Вот так. Теперь передохни. Но он уже ничего не слышал. Перед глазами была толь ко фляга, ползущая по скале. Выше, выше… Руки онемели, вот-вот выпустят бечевку. Он налег на нее всем телом. Перевел дыхание. Снова потянул. Фляга уже на перегибе склона… на крутой стене… почти у самой вершины… у него в руках! Холодная, влажная! Теперь пробку. Только бы открыть пробку! Зубами, зубами ее!
Вода!..
Он пил ее, не отрываясь, захлебываясь, боясь обронить хоть каплю драгоценной влаги, и чувствовал, как с каждым глотком напрягается тело, возвращается жизнь, проясняется сознание. Теперь он отчетливо различал в толпе дядю Степана с рупором и большим полевым биноклем, знакомых охотников, рабочих экспедиции, мальчишек. Не было только Тани.
— Ну как? — Степан Силкин помахал рупором. — Теперь отдохни и тяни дальше. Подадим веревку. Для спуска, значит. Обещали вертолет, да сам знаешь, как она, техника-то! Спечешься, пока прилетит. Веревка, брат, вернее. Только того, тяни с роздыхом. Дотянешь — перебрось на другую сторону. Здесь мы ее закрепим. Да не вздумай сам слезать! Поможем. Народу эвон сколько! Давай тяни.
Спустя час он был на земле. Сбросил стягивающую его петлю, поднялся, сделал шаг вперед и упал на руки старого охотника:
— Спасибо, дядя Степан! И всем, всем…
— Не нас благодари.
— Знаю. Где она?
Силкин потер лоб, кашлянул в сторону:
— Худо с ней, Максим. Надорвалась докторша. — Как надорвалась? Что с ней?
Охотник положил руку ему на плечо, снова кашлянул:
— Ты только не того… Не очень, понимаешь. Здесь она, вон там, в теньке. Не надо ее тревожить. В больницу я послал.
— Но как же… Почему? — Максим рванулся, упал, вскочил снова. — Как же так?..
Таня лежала в небольшом, наспех набросанном шалашике на хвое пихты. Он опустился рядом:
— Таня!
Она открыла глаза, слабо взмахнула ресницами:
— Максим, ты жив! Какое счастье. А я… Наклонись ближе. Мне нельзя двигаться. Сердце… Давно пошаливало. А тут… Понервничала я. Но ничего… Может, пройдет. А если… Если мы больше не увидимся, то знай, одного тебя я любила. Всю жизнь. И еще — рисунок мой… Его передадут тебе. После… — она закрыла глаза.
Издали послышался шум приближающегося вертолета, Максим осторожно взял ее за руку:
— Таня, слышишь, летят! Теперь все будет хорошо. Сейчас мы отправим тебя…
Она не отвечала. Он похолодел от ужаса:
— Таня! Что же это, Таня?! Дядя Степан!! — он попытался вскочить. И упал. Сознание оставило его.
Очнулся Максим в больничной палате, на койке, при свете ночника. Рядом стояло еще несколько кроватей. В них спали. Дверь в коридор была закрыта. Он сбросил одеяло, нажал кнопку звонка. Через минуту вошла сестра. Прохладная рука легла на лоб, поправила волосы:
— Проснулись? Лежите, не вставайте. Сейчас принесу бульон.
— Сестра, скажите…
— Вам нельзя много говорить.
— Хорошо. Узнайте только…
— Врач не велел разговаривать с вами ни о чем.
— Но одно слово, пожалуйста. Как Таня?
— Неблагополучно с Татьяной Аркадьевной… Максим вскочил на койке:
— Что? Говорите!
— Лягте. Лягте сейчас же! Я сказала, вам нельзя…
— Но она жива? Скажите — жива? Да что вы молчи те?!
Сестра как-то судорожно открыла рот, отвернулась и выскочила в коридор. Оттуда послышался сдавленный плач. Максим зарылся лицом в подушку.
Это было единственное место, которое ему осталось навестить перед отлетом из Отрадного, — тихое кладбище на лесной поляне, где лежали его отец и мать и где только что вырос свежий могильный холмик. Он опустился перед ним на колени и прижался лбом к холодному песку.
Какой ценой расплатился он за свою безрассудную идею?
Рокот мотора вывел его из оцепенения и забытья. Рейсовый вертолет шел на посадку к аэродрому. Пора! Прощай, Таня…
Он оторвал лицо от земли и чуть не вскрикнул от удивления и боли: огненно-красный бутон астийского эдельвейса пламенел на голом песке могилы, распространяя вокруг ни с чем не сравнимый горьковатый аромат. А потом было письмо Силкина. Письмо странное. В нем дядя Степан после традиционных поклонов подробно рассказывал о своих охотничьих делах, о всех вормалеевских знакомых, а в конце писал: «И еще я хотел сообщить тебе — не знаю, как и написать об этом, — вскоре после отъезда твоего из Отрадного пропала могила нашей докторши Татьяны Аркадьевны. И не то, чтобы кто-то порушил ее, нет, совсем пропала могила: на том месте, где хоронили ее — сплошная дерновина, словно тут никто никогда и не копал. Весь Вормалей до сих пор только об этом и говорит. А я так не знаю, что и подумать, отродясь такого не случалось. Хотя должен тебе сказать, что в тот день, когда мы ее хоронили, — ты тогда еще в больнице лежал, — я подошел проститься к гробу и, веришь — будто живая была докторша, даже румянец на щеках. Я еще подумал тогда: что-то тут не совсем ладно. И вот, такое дело… А на днях Кузьма Вырин, отрадненский охотник, рассказал мне, что в канун того дня, как пропасть могиле, он видел, будто часа в два ночи упала с неба звезда, как раз на кладбище. И такая, слышь, яркая, какой он сроду не видывал. Ну, Кузьма, ты знаешь его, горазд и прихвастнуть, с него станет. Но когда столько всего сразу, тут уж сам понимаешь… И все ж таки есть тут у нас и такие, которые не верят во все это. Особенно начальство. Говорят, просто похоронили докторшу в другом месте, стало быть, перепутали мы и разводим теперь религиозный дурман. Но ты-то знаешь, что Степан Силкин не верит ни в черта, ни в дьявола и никогда ничего не путал, даже в самой что ни на есть глуши, а не то что на нашем кладбище, хоть и много здесь теперь хоронят всякого пришлого люду. А пишу я это потому, что сами вы с Антоном Дмитриевичем не раз у меня пытали, не слышал ли я о чем-нибудь диковинном, необъяснимом. Так это вот самое диковинное и есть…»