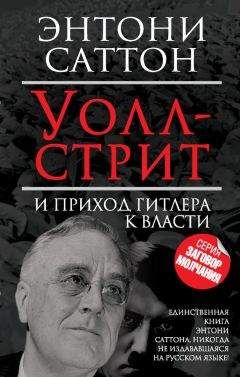Она прошла через вестибюль к лестнице, миновала доску объявлений. Обычно доска была утыкана записками с предложениями купить мотоциклы, стереосистемы, воспользоваться услугами машинисток, а также присоединиться к уезжающим в Канзас, Калифорнию или Флориду, чтобы попеременно вести машину и платить за часть бензина. Но сегодня почти всю доску объявлений занимал большой плакат, изображавший сжатый кулак на тревожно-красном фоне, который напоминал пламя. На плакате крупными буквами было написано: «Забастовка!» Стоял конец октября 1970 года.
Джонни жил на втором этаже, в квартире с окнами на улицу – мой пентхаус[1], говорил он. Там он мог стоять в смокинге, как Рамон Новарро[2], с пузатым бокалом в руке, полным сока или воды, и лицезреть большое бьющееся сердце Кливс Милс: его толпу, которая валила из кинотеатра, снующие такси, неоновые вывески.
По существу, Кливс Милс состоял из главной улицы со светофором на перекрестке (после шести часов вечера он превращался в мигалку), двух десятков магазинов и небольшой фабрики по производству мокасин. Как и большинство городков, окружавших Ороно, где находился университет штата Мэн, Кливс Милс жил в основном за счет студентов, обеспечивая их всем необходимым – пивом, вином, бензином, рок-н-роллом, полуфабрикатами, наркотиками, бакалейными товарами, жильем, фильмами. Кинотеатр назывался «Тень». Когда шли занятия, в нем показывали некоммерческие фильмы и ностальгические боевики 40-х годов. В летнее время беспрерывно крутили «вестерны» с Клинтом Иствудом в главной роли.
Джонни и Сара год назад окончили университет, и оба преподавали в средней школе в Кливс Милс, которая в числе немногих еще не вошла в окружную общеобразовательную систему. Университетская профессура и администрация, а также студенты снимали в Кливсе жилье, так что деньги в городской казне не переводились. Средняя школа была оборудована по последнему слову техники. Обыватели могли зудеть по поводу университетской публики с ее заумными разговорами и антивоенными маршами, не говоря уже о ее вмешательстве в городские дела, но они не имели ничего против долларов, которые капали в их карманы в виде налогов на элегантные профессорские особняки и многоквартирные дома, – они располагались в районе, который студенты окрестили Никчемной Землей, или Дурацкой Аллеей.
Сара постучала, и Джонни каким-то странно приглушенным голосом крикнул:
– Открыто, Сара!
Слегка нахмурившись, она толкнула дверь. В квартире Джонни было совершенно темно, если не считать мелькающего желтого света от мигалки с улицы. Вместо мебели горбились темные тени.
– Джонни?..
Решив, что перегорели пробки, она неуверенно шагнула вперед – и тут на нее из темноты надвинулось лицо, ужасное лицо, какое можно увидеть только в кошмарном сне. Оно светилось неземным, могильным зеленым светом. Один глаз был широко раскрыт и смотрел на нее как-то затравленно. Другой злобно уставился сквозь щелочку век. Левая половина лица – та, что с открытым глазом, была нормальная. Зато правая, казалось, принадлежала чудовищу: нечеловечески перекошенная – толстые губы растянуты, кривые зубы оскалены и блестят в темноте.
Сара приглушенно вскрикнула и отшатнулась. Вдруг зажегся свет, и вместо какого-то темного подвала она вновь оказалась в комнате Джонни: на стене – фотомонтаж – Никсон торгует подержанными автомобилями, на полу – плетеный ковер, сделанный матерью Джонни, повсюду винные бутылки вместо подсвечников. Лицо перестало светиться, и она поняла, что это была всего лишь маска, которую продают в дешевых магазинах ко Дню всех святых. Голубой глаз Джонни моргал в пустой глазнице.
Джонни сорвал маску, и вот он перед ней – в выцветших джинсах и коричневом свитере, с неотразимой улыбкой на лице.
– С праздником, Сара, – сказал он.
Сердце ее продолжало стучать. Он действительно напугал ее.
– Очень забавно, – сказала она и повернулась, собираясь уйти. Ей совсем не нравилось, когда ее так пугали.
Он перехватил Сару уже в дверях:
– Эй… Я свалял дурака.
– Еще бы. – Она смотрела на него холодно, по крайней мере пыталась так смотреть. Гнев уже проходил. На Джонни просто нельзя было долго сердиться. Любила она его или нет – на этот вопрос у нее еще не было ответа, – но долго дуться на него или таить обиду она была не в состоянии. Разве можно злиться на Джонни, подумала Сара, и эта мысль показалась такой нелепой, что она невольно улыбнулась.
– Ну вот, так-то лучше. А я уж думал, что ты, парень, хочешь меня бросить.
– Я не парень.
Он окинул ее взглядом:
– Это я заметил.
На ней была мохнатая меховая шуба – искусственный енот или что-то столь же недорогое, – и бесхитростность, с какой он выдал свое желание, снова вызвала у нее улыбку:
– В этой шкуре и не различишь.
– Я-то различу, – сказал Джонни. Он обнял ее и поцеловал. Она не хотела отвечать на его поцелуй, но, конечно же, ответила.
– Прости, что напугал тебя, – сказал он и потерся носом о ее нос, потом разомкнул объятья. Он поднял маску вверх. – А я думал, она тебе понравится. Хочу ее надеть в пятницу на уроке.
– Но, Джонни, это же нарушит порядок.
– Как-нибудь обойдется, – сказал он с усмешкой. И, черт возьми, у него наверняка бы обошлось.
Сара приходила в школу каждый день в больших очках, словно сельская учительница, волосы стянуты в пучок такой тугой, что, казалось, она вот-вот закричит от боли. Сара носила юбки чуть выше колен, хотя у большинства девчонок они едва прикрывали трусики (а ноги у меня все равно лучше, со злорадством думала Сара). Она рассаживала учеников в алфавитном порядке, что, по закону средних чисел, должно было вроде удерживать шалунов на расстоянии друг от друга, и решительно отсылала провинившихся к заместителю директора, руководствуясь при этом соображением, что тот – в отличие от нее – получает дополнительные пятьсот долларов в год за выполняемую им роль экзекутора. И все равно школа была для нее постоянной борьбой с дьяволом, преследующим всякого начинающего учителя, – с Беспорядком. Особенно раздражало Сару постоянное присутствие своего рода негласного суда присяжных – общественного мнения учеников, – который оценивал каждого нового учителя, и вынесенный вердикт был не в ее пользу.
Джонни, по крайней мере внешне, вовсе не соответствовал представлению о том, каким должен быть хороший учитель. Он слонялся из класса в класс, витая в каких-то сладких грезах, и частенько опаздывал на урок, заболтавшись с кем-нибудь на переменке. Он разрешал детям сидеть там, где им захочется, и они каждый день меняли места, причем классные драчуны неизбежно оказывались в задних рядах. При таком условии Сара не смогла бы запомнить их имен до марта, а Джонни уже знал всех учеников как свои пять пальцев.