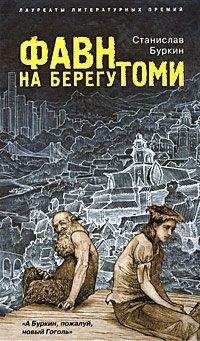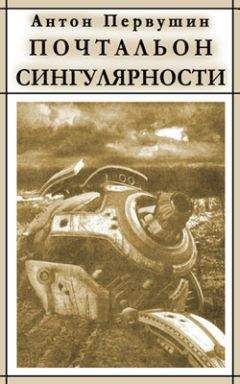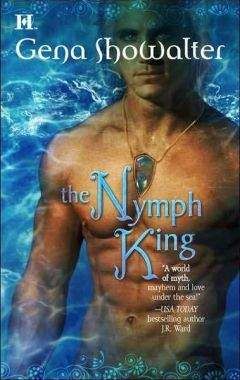Убедившись в том, что попутчик, глядя в окно, призрачно отражающее купе, глубоко погрузился в раздумья, учитель украдкой заглянул в карточку. На визитке жирным шрифтом красовалось:
Иванъ Александровичъ Человекъ
Путешественникъ и слагатель песенъ.
2
В Москву поезд пришел на другой день очень пунктуально, опоздал на четыре минуты. Погода была неопределенная, но лучше и суше варшавской, с чемто волнующим в воздухе. Всюду было много народу… Несмотря на строгие заветы, в Москве учитель Бакчаров бывал чаще, чем в Петербурге. Дмитрий Борисович взял извозчика без торга и велел везти себя прямо в гостиницу «Будапешт». Вез его старик, согнутый в дугу, печальный, сумрачный, глубоко погруженный в себя, в свою старость, в свои мутные думы, мучительно и нудно помогавший всю дорогу своей ленивой лошади всем существом своим, все время чтото бормотавший ей, иногда укорявший ее ядовитым голосом:
— Не ясно тебе, что ль? Но, пошла! Ни без тебя, ни с тобою жить не могу. Пошла, говорю!
Только когда в шумном потоке ползли по Тверскому бульвару, старик неожиданно задрал голову, горизонтально подставляя ветру седую воздушную бороду, и гнусаво взревел:
— Я, брат, эту гостиницу еще с николаевских времен помню. Девки там — огнь дьявольской! — раскатился дед хриплым кашляющим смехом и со всей силы стеганул свою клячу так, что та, подпрыгнув, засеменила, как таракан от тапка.
Интуитивный первобытный ужас внезапно пронзил Бакчарова, и он, разинув рот, проводил взглядом золотые и сиреневые главы Страстного монастыря. Учитель глубже забился в угол сиденья пролетки, надвинул свою старую чиновничью фуражку козырьком на глаза и выше поднял воротник шинели. Привычным жестом выхватив из кармана тетрадь, Дмитрий открыл ее на заложенной визиткой Ивана Человека страничке и уставился в каракули набросанного им в поезде стиха.
Вдруг вспомнил я, что на востоке людям нужен —
Жильцам глухой заснеженной тайги,
Там, где Волконский был отчаянно простужен,
Где ночью сосны стонут от пурги.
И ждет меня в снегах Сибирь суровая,
Как ждет красавица, лежащая в гробу.
И озаглавлена страница жизни новая:
Прости, любимая, прощай, merci beaucoup.
— Приехали! — растоптал поэзию грубиян извозчик.
Учитель хмуро осмотрелся и увидел, что стоят они возле двухэтажного кирпичного дома с вывеской: «Номера для приезжающих. Будапешт». Было уже без четверти восемь, место было шумное.
Портье гостиницы «Будапешт» Василий Барков, недовольный тем, что ему вручили визитку вместо паспорта, прочел по слогам:
— Иван Александрович Человек, — и с сомнением уставился на Бакчарова.
— Чтото не так? — сердито поинтересовался учитель.
— Ну и фамилия у вас, ваше благородие, — кокетливо пожал плечами портье в чистенькой ливрее. — Прям какаято ненастоящая.
Недовольно хмыкнув, Дмитрий Борисович уронил на стойку еще один серебряный полтинник.
— Ну что вы, что вы, я ж ведь пошутил, ваше благородие, — привычно залепетал портье, жадно сгребая ладонью монету после неудачной попытки сцапать ее пальцами.
Учитель только нахмурился, не позволил взять коридорному глобус, только свой чемодан, и вслед за лакеем побрел из фойе наверх, устало топая по ступеням и хватаясь за липкие перила парадной лестницы. Портье проводил его недобрым взглядом.
— Попался, сука! — злорадно прогнусавил портье, крутя между пальцами карточку. Потом черкнул таинственную записку: «Человекъ объявiлся. Скажи всем». Выдернул из пачки чистый конвертик, дунул в него и уронил туда записку с визиткой. Потом слегка хлопнул по глухому звоночку на стойке.
Прибежал коридорный, востроглазый мальчишка с лисьим пухом на голове, в сюртуке и розовой косоворотке.
— Слушай меня, Калач, — шипел поручение портье, прыская ядом в самое лицо схваченному за плечо мальцу, — отнесешь это распорядителю ресторана «Вихрь». Там попросишь у него приказаний. Все сделаешь, пятак получишь. У меня ты на сегодня свободный.
— Как же с заказами постояльцев быть прикажете? — с московской бойкостью спросил коридорный.
Портье на секунду задумался, но тут же расслабился.
— Сам все выполню, — сказал он, хлопнув его по плечу, и отпустил мальчика жестом руки.
В темном убогом номере Дмитрия Борисовича воздух был сухим, едким и душным. Учитель первым делом распахнул форточку, — окно выходило во двор, — и на него повеяло свежестью и городом, понеслись певучие крики разносчиков, звонки гудящих за противоположным домом конок, слитный треск колясок, музыкальный гул колоколов… Город все еще жил своей шумной огромной жизнью в этот мутный осенний день. Учитель отошел от окна, обогнул высокую кровать и провел рукой по сыроватому покрывалу, от которого почти романтично пахло клопами и развратом; кинул в изголовье фуражку с шинелью и, ощущая опустошенность, присел на кровать, сгорбился и кудато под дверь уставился взглядом постящегося Христа с картины Крамского.
Он все никак не мог понять, зачем они нужны, эти раздирающие сердце, утонченные, жизнерадостные польки. Если бы вселенной правили олимпийские боги, жестокие и озорные, то все было бы гораздо понятнее в этом мире для Бакчарова. Жизнь и любовь были бы игристым вином, а всякое страдание — злым, отравляющим эту радость ядом. Учитель, словно жизнерадостный Вакх, наблюдал бы изза тенистых стволов рощи за резвящейся на поляне Бетти. Он с предвкушением смотрел бы на ее длинный сарафан, мешающий ей бегать, на ее светлые волнистые волосы, подобранные в увесистый пружинистый хвост, смотрел бы, твердо зная, что вотвот возьмет и утащит ее в лесные кущи. Там он насладился бы ею без зазрения совести, только для того, чтобы больше не тосковать и продолжать веселиться с нимфами. Но ведь олимпийцы не правят миром, а любовь и жизнь это не игристое вино, но кровь страданий. Тогда для чего они нужны, эти польки, мучился русский учитель. Мучился вдвойне еще оттого, что уж больно не походила эта жажда оргий на благородные христианские муки.
По коридорам «Будапешта» звонили, бегали, перекрикивались. За окном глухо раздавались голоса, слышался шум какойто скрипучей строительной машины.
— Напиться, — злобно объявил себе Дмитрий Борисович, вырвавшись из тупика тоскливых мыслей, и тут же в его дверь постучали.
Бакчаров не встал, только сел прямо, скомкал руки в паху, кашлянул и строго ответил:
— Войдите!
Дверь скрипнула, и в проеме показался кокетливо улыбающийся портье.