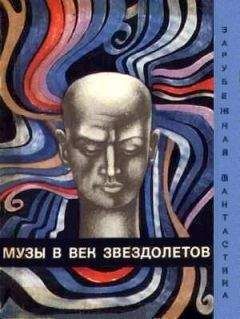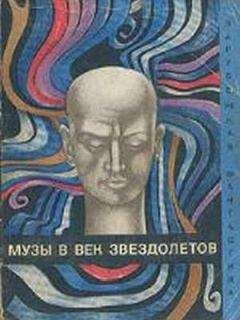— А ты все такая же, ничуть не изменилась. Спокойная, холодная как мрамор, и вдруг — порыв, буря! И вслед за этим — пылающие щеки, краска стыда… Вылитая героиня кинофильма двадцатого века! — мужчина смотрел на нее ласково. У него был приятный голос — бархатный баритон.
— Да, наверно, я все такая же… Как давно это было, ужасно давно… Ты можешь сосчитать, Минору, сколько лет прошло с тех пор? Что-то около пятидесяти…
— Поразительно! Ты помнишь мое имя!
— Вспомнила. Честно говоря, это получилось случайно, вот сейчас. Раньше я пыталась вспомнить и никак не могла… Ведь мы были вместе страшно давно…
— Да, страшно давно и очень недолго — всего полгода, — сказал Минору.
И эти слова, преодолев полувековую преграду, вызвали в памяти Лины давно забытые картины. Все обрело удивительную четкость и ясность, словно было только вчера.
Да… тогда Лина не ответила ему ничего определенного. До самой последней минуты так ничего и не сказала. А Мииору предлагал продлить их краткосрочный брак хотя бы еще на год, хотя бы на несколько месяцев, если уж она не согласна на вечное супружество…
И почему так получилось? Она всегда тепло относилась к Минору, даже любила его. Ей было хорошо с ним и тоскливо без него. Но все-таки что-то удерживало ее от решительного шага. Так она ему ничего и не сказала. До самой последней минуты.
Очевидно, в конце концов победила жадеда приключений, свойственная юности. Лина хотела насладиться жизнью в полную меру. Не хотела связывать себя. Она была еще такой молодой — не прожила и одной пятой отпущенного человеку стодвадцатилетнего срока. Люди в то время жили взахлеб, подчиняясь сумасшедшему ритму эпохи. А чем Лина хуже других? Ей казалось, что счастье — это постоянная смена впечатлений, никогда не прекращающаяся погоня за наслаждениями. Вечный или даже долгосрочный брак положил бы конец такой жизни.
И она… рассталась с ним. Удрала потихоньку, исчезла, испарилась…
Потом Лина не раз вступала в краткосрочные браки. И не раз бывала счастлива. Ей встречались мужчины, которые давали ей все, о чем может мечтать женщина.
Но, как ни странно, полного удовлетворения она не испытала. Неповторимость и свежесть чувств исчезли в тот день, когда она ушла от Минору.
Возможно, эго подсознательное чувство неудовлетворенности и по сей день мешало ей вступить в долгосрочный брак. Вроде бы все хорошо, но где-то на донышке накапливается горький осадок.
— Ты… сейчас…
Лина замолчала. Она хотела спросить, состоит ли сейчас Минору в долгосрочном или вечном браке, но что-то ее удержало.
Но Минору понял. Он покачал головой:
— Нет, я один…
— Один?.. То есть…
— Ну да, один! Совершенно один… абсолютно один… Я — и больше никого, — сказал Минору, отчеканивая каждое слово своим звучным баритоном.
— Не может быть!
Лина вдруг почувствовала медленно нараставшую холодную ярость. Наверно, он смеется над ней. Специально пришел, чтобы посмеяться. И нарочно так говорит — не говорит, а почти поет.
— Почему же не может быть? Я один…
— А где ты… вообще?
— Как видишь, здесь.
— А чем ты занимаешься?
— Стою перед тобой…
— Перестань паясничать!
Лина сама удивилась резкости своего голоса. Но, как видно, вся боль, вся горечь, которая скапливалась в ней годами, теперь прорвалась наружу, как взбесившаяся вода, вдруг уничтожившая дамбу. Теперь или никогда! Она не хочет, не может отпустить Минору! Если он уйдет, тогда уже ничего больше не останется, совсем ничего. Только горький осадок, разъедающий душу. Она готова на вечный брак или на долгосрочный. Лишь бы он захотел!
Минору странно улыбался, и Лина снова задохнулась от ярости.
— Зачем ты пришел?
— Да просто так… повидаться с тобой.
— Теперь?! Какая в этом необходимость?
— Не знаю… Просто захотелось взглянуть на тебя, вот я и пришел.
— Но зачем, зачем? Хочешь унизить меня? Бросить мне в лицо слова обвинения, которые не удалось произнести пятьдесят лет назад? Насладиться моими муками, моим поздним раскаянием?
Лина рванулась к Минору.
Он изменился в лице.
— Не подходи!
— Что?!
— Нельзя! Стой на месте! Не подходи ко мне близко!
Но Лина была уже не в силах сдерживаться. С простертыми вперед руками она бросилась к Минору. И… чуть не упала, потеряв равновесие. Ее руки обнимали пустоту.
Минору нигде не было. Он исчез.
Сначала она очень испугалась, а потом ее охватило такое отчаяние, словно весь мир раскололся пополам.
Ну, конечно… Она ведь знала… Должна была знать…
К ней приходил не Минору. Это был его образ, созданный электронным цветочником.
Последнее время она часто вспоминала Минору. Думала о нем, машинально перебирая клавиши. Ее пальцы бессознательно приказывали электронному мозгу воспроизвести его образ. И вот наконец машина запомнила, зафиксировала в своей памяти все мельчайшие детали, и он появился.
Что ж, это чистая случайность. Каприз судьбы или, вернее, каприз электронного мозга. Возникали же иногда помимо ее воли причудливые яркие цветы, а вот теперь возник Минору…
Испуг прошел. Человеческий разум победил.
Но тоска осталась. Видно, ей суждено вечно жить в душе Лины и разъедать ее, как кислота разъедает стенки сосуда.
Лина окинула взглядом комнату. Закрыла глаза, пытаясь еще раз вызвать образ Минору хотя бы в своей памяти. Но он был блеклым и расплывчатым. Все проходит, и ничего, ничего не остается, только пустота…
Может быть, так и положено. Может быть, это просто возраст… Правда, по современным понятиям она далеко еще не старая женщина, но все равно больше половины жизни уже прожито. И она устала, Очень устала… А главное, его нет, давным-давно нет…
Лина почувствовала, как что-то в ней увядает, роняя недавно еще свежие лепестки. Так увядали когда-то живые цветы под холодным осенним ветром.
Придется пойти к Юри, в институт, и учить молодежь прекрасному и печальному искусству создавать электронные цветы — насыщенные свежими красками иллюзии, которым она отдала всю свою жизнь. Иначе она не выдержит, ни за что не выдержит…
— Если уж говорить о самобытности, то вы банкрот, — заявил Картер. — Взгляните правде в глаза, Рамирес! Вашему искусству приходит конец. Оно просто не выживет. Общество развивается слишком быстро, технический прогресс слишком далеко зашел. Где вы сегодня найдете человека, настолько знакомого с разными сторонами жизни, чтобы создать подлинное произведение искусства?
— А вы хотите ускорить развязку! — с горечью бросил Рамирес. — Содействовать гибели искусства! — Художник был небольшого роста, смуглолицый, с черными курчавыми волосами, беспорядочно спадающими на лоб. Большой морщинистой рукой он поднес стакан текилы ко рту, залпом выпил его и пососал ломтик лимона.