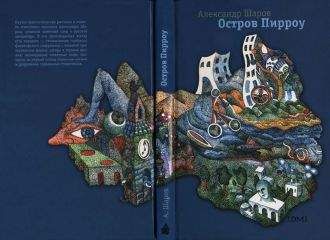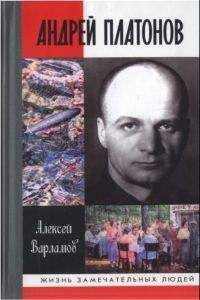Чебукин остановился перед Ольгиной комнатой и громко сказал:
— Машка действует мне на нервы; если уж у тебя не хватает моральной решимости расстаться со столь прелестным существом, могла бы не выпускать ее в немногие часы, когда я отдыхаю.
Ольга не ответила, но он отчетливо слышал, что она стоит за дверью и тяжело, обиженно дышит.
Старшую дочь Чебукин не любил, отчасти из-за того, что развод с ее матерью был обусловлен некоторыми чрезвычайными обстоятельствами. Без чрезвычайных обстоятельств не обойдешься, но здоровее избегать всего, что напоминает о них.
Чебукин потоптался на месте. «Суеверие, но есть и тяжелее грехи…» Он попытался успокоить себя: «Что, собственно, может стрястись? Люстра на голову свалится? Нереально, да и сплю я не под люстрой».
Все же в спальню он не пошел, а заглянул в столовую, где Колька, сопя и насвистывая, возился, как всегда, с удочками. «Оболтус, — подумал Чебукин. — В двадцать семь ни профессии, ни идей. Современный папуас со знанием иностранных языков. Я в его годы…» Мысль складывалась скучно, он отбросил ее и устало сел в глубокое кресло.
— Мерихлюндия, предок? — спросил Колька, не лишенный проницательности дикаря. — Пожертвуй наследнику полторы косых в новом летосчислении на спиннинг, вакхические игры и ремонт машины. Доброе дело рассеет тоску.
Чебукин отрицательно покачал головой.
— Опять Машка? — с той же проницательностью поинтересовался Колька. — Напрасно ты недооцениваешь добрые и, подчеркиваю, бесплатные услуги мадемуазель Мари. Нелюбезный твоему сердцу мой друг и мыслитель Анджей Люсьен Сыроваров учит, что черные кошки в наш тревожный век единственно надежный компас. Подобно капитолийским гусям, они, предвещая опасность, дают время подготовиться. Пожарной машине предопределено провидением с воем сирены оборвать нить твоей жизни. Но чу! — черная кошка перебежала дорогу, и ты спокойно возвращаешься к теплу парового отопления. Ты торопишься на сатурналии, где волей судеб коварная соблазнительница разобьет хрупкий и уже надтреснутый сосуд семейного счастья, но чу! — вестница беды перебежала дорогу и т. д. Будь другом, предок, выдели полторы косых!
Чебукин снова отрицательно покачал головой и с кривой усмешкой возразил:
— В квартиры пожарники не въезжают.
— Какая убогость фантазии, майн либер фатер, — воскликнул Колька с некоторой злобой в голосе. — С доисторических времен, когда терпение и труд создали нетленность мужского мышления, и до нашей эпохи, когда губная помада и перманент обеспечили нетленность женской красоты, не было доктора наук со столь нищей фантазией. Квартира?! Разве стены — защита от лучей, судьбы, психических полей, потусторонних влияний, угрызений совести?..
— Конкретнее! — перебил Чебукин. — Что все-таки может со мной приключиться?..
— Конкретнее? Изволь… — Колька задумался: ему хотелось нанести удар ниже пояса. — Конкретность — моя сильная сторона… Ну что ж, изволь, «ты этого хотел», как говорили римляне. Сегодня четырнадцатое? Железное течение реки времен вслед неумолимо примчит пятнадцатое. И в девять часов постучится судьба в лице Вениамина Анатольевича Маниловского. Судь-ба!
Колька собрал снасти и удалился.
Чебукин тоже пошел спать. Он лежал под пуховым одеялом, плотно зажмурив веки, а в голове, не давая уснуть, вертелось странное и горькое слово «судьба»…
2
Светскость, светскость и еще раз светскость — не устану повторять я вам.
Дю Шантале, маркиз и присяжный поверенный
Амфоры с медом всегда приносил он афинянам сладколюбивым…
Пока не случилось однажды…
Фрагмент надписи на статуе бегущего юноши. II век до нашей эры
Вениамин Анатольевич был в известной мере терапевтом, хотя и не любил тяжелых недугов, в известной мере хирургом, хотя и боялся крови, был фтизиатором, невропатологом, но «что знал он тверже всех наук» — это забытое искусство деликатного обращения, или, как говорили некогда, «политеса». Он чувствовал, когда и кому из пациентов можно разрешить умеренное потребление сосудорасширяющих напитков и когда и кому рекомендовать воздержанность. Знал, кому пригодится врачебная рекомендация переменить обстановку и провести отпуск вдали от семьи, а кому, напротив, надлежит рекомендовать форсированное пользование семейным теплом. На кого умиляюще действует детальный разбор действительных, предполагаемых и возможных недугов и кто даже от одного упоминания слова «болезнь» теряет спокойствие, необходимое для успешного развития наук. В преобладающем большинстве его пациенты были ученые: теоретики права, эстетики и педагогики.
Знал он также, к кому из пациентов надлежит применить особое, самое тонкое и деликатное обращение и с кого за глаза хватит обращения просто деликатного. Василий Иванович не был академиком, труды его выпускались не в дерматиновых или коленкоровых, а за тонкостью — в обычных бумажных обложках, и все же, по сотням признаков, Вениамин Анатольевич без колебаний относил Чебукина к первой категории пациентов.
Он нажимал дверной звонок Чебукина ровно в девять, но улыбающееся заботливое выражение придавал своему приятному лицу еще минут за десять, как только выходил из машины у чебукинского подъезда: улыбке, для полной естественности, надо обжиться.
В квартире Чебукина Вениамин Анатольевич также распределял сияние не уравнительно, как солнце, а осмысленно и рационально. Кошку Машку, если она попадалась, он отбрасывал носком и громко, чтобы Чебукин слышал, замечал: «Тьфу, какое мерзкое существо!» Ольге небрежно кивал, Кольку и Колькины удочки опасливо обходил и, только пожимая руку «самому», доводил улыбку до фортиссимо.
Перед осмотром Вениамин Анатольевич и Василий Иванович обычно минут двадцать говорили, но отнюдь не о болезнях, а об охоте, рыбной ловле, политических новостях, вероятности жизни на Марсе и, только обнаружив единство взглядов на эти разнообразные явления, приступали к главному.
Маниловский прикладывал ухо — стетоскопом он не пользовался — к теплой пухлой груди Чебукина, потом к такой же теплой пухлой спине и, выпрямившись, с открытой широкой улыбкой встречал взгляд пациента.
— Легкие? — спрашивал Чебукин.
— Кузнечные мехи! — отвечал врач.
— Сердце?
— Паровой молот!
И на этот раз все шло, как всегда, а беседа об охоте и вероятности жизни на Марсе прошла так дружественно, что Чебукин начал забывать о вчерашнем предзнаменовании, когда ухо врача оторвалось от его груди и Вениамин Анатольевич, на этот раз не улыбаясь и глядя поверх головы пациента, проговорил: