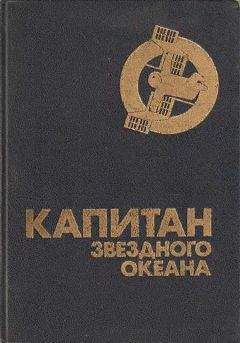Зверь подошел совсем близко. Повернулся боком, и Володя даже вскрикнул. Зверь заскулил еще жалобнее, а в желтых глазах по-прежнему обращенных к Володе, появилось что-то просящее. Между его ребер торчал обломок какой-то палки, покрытой запекшейся кровью. Серо-желтая короткая, жесткая шерсть вокруг раны тоже была в крови. «На сук где-то напоролся, — решил Володя. Это же надо — за помощью к человеку пришел!» Он читал и слышал всякие такие истории, но не очень-то им верил, считая выдумками писателей или просто охотничьими байками, но вот поди ж ты!
Володя осторожно взялся за торчащий обломок. Зверь вздрогнул, напрягся. Володя уцепился ногтями, потянул — и в руках у него оказался кусок стрелы с окровавленным зазубренным наконечником, привязанным к древку узкой берестяной лентой…
Володя обалдело посмотрел на стрелу. «Откуда это здесь?! Надо же!» — подумал он, как уже не раз думал вчера и сегодня. А больше ничего не шло в голову. Он машинально завернул обломок в лист папоротника, сунул в карман джинсов. Другим листком оттирая руки, увидел, что тоже порезался стрелой: на указательном пальце была царапина. Володя замотал ее носовым платком и подумал: надо бы, наверное, и зверю что-то приложить к ране, но только что? Он поднял глаза на зверя — а тот, издав невнятный звук, вроде короткого мяуканья, отпрыгнул в кусты. Зашуршал пихтач — и опять тихо стало в тайге, будто ничего и не было, а просто кончился еще один Володин сон…
Но кончился этот — начался другой: кто-то засопел сзади, и не успел мальчик повернуться, как на него обрушилось что-то темное, заслонило глаза. Сильные и ловкие руки стянули его путами, потом его подняли и куда-то понесли.
…Сначала было тихо, только вдали будто гудел самолет. Кружит высоко, гул то утихает, то снова усиливается. Володя открыл глаза. Он стоял, привязанный за локти и под коленями к какому-то негладко обтесанному столбу, саднило ладони, а руки были вывернуты назад так крепко, что ныли плечи.
Внезапно к нему подскочил человек. Худое, все в резких складках лицо его состояло, казалось из одних углов, а между нависших морщинистых век будто угольки раскаленные воткнуты: столько злобы в маленьких глазках. На лицо свешивались черно-седые волосы, а на голове — венок не венок, а будто бы стружки древесные, свитые вместе, надеты. И На поясе такие же стружки. Черный халат, с огненной молнией на груди, развевается. Не то пляшет, не то скачет человек, быстро-быстро перебирая ногами, мелькая мягкими сапожками да черными, с огненным узором, наколенниками. В руках мечется обруч, не то тканью, не то кожей обтянутый. С одной стороны ремни перекрещены, к ним деревянное кольцо привязано, и человек то и дело за это кольцо дергает. Гудит обруч, жужжит, визжит на разные голоса, будто тысячи неведомых живых существ в нем скрыты. А с другой стороны на шкуре изображение зверей. Вот кажется, лось склонил рогатую голову. Вот змея свилась в кольцо…
Володя осмотрелся. На утоптанной поляне торчала засохшая елка. Ветви на ней были все срублены, только четыре осталось. И на них, среди желтых полуосыпавшихся иголок, тоже висели кудрявые стружки. Вокруг елки воткнуто несколько прутьев со свернувшимися в трубочку сухими листьями: вот, кажется, клен, ольха… И еще чудо: стоит, накренившись, под елкой деревянный грубо вырезанный идол.
Тут Володя чуть не ахнул от изумления: напротив — как он только не приметил ее раньше! — точно так же, как и он, притянута к столбу старая Унгхыр. Теперь шаман — или как его там? — перед ней скакал. Поодаль, окружая площадку, стояли люди. Мужчины, женщины, дети. Все в узорчатых халатах, у всех косы: у женщин по две, у мужчин — одна: пожестче, покороче. У женщин налобники из затейливо скрученных железок, из маленьких звериных шкурок, ажурные подвески покачиваются. Все стоят как зачарованные, глаз с шамана не сводят, только выкрикивают:
— Ух-та! Ну, давай!
А шаман после таких одобрений еще быстрее скачет, еще ловчее извивается, еще громче распевает:
— Куа, куа, куа! На той горе живущие большие волки, двое вместе ко мне спуститесь, один белый, другой черный! В том море живущий красный сивуч, ко мне на помощь явись! В той туче живущий ярый гром, греми оглушительнее, сильнее ударь! Молния, сверкая ослепительно, вонзи свой огненный палец в головы оборотней! Пепел их соберем, развеем по ветру, чтобы не проросло злое колдовство черным папоротником, отступились чогграмы, чтобы вновь расцвела в тайге голубая лилия, насыщающая голодных, исцеляющая больных, исполняющая желания!
— О голубая лилия! — простонала толпа.
— Слушая, ушам своим не верю! — вдруг громко воскликнула, перекрывая шум, старая Унгхыр. — Неужели с тех пор, как погибли молодые женщины, что в поход за голубой лилией отправились, перевелись храбрые среди нихинок? А если молодые не знают дорогу, что же не подсказал им ты, Ючин? Что же ты вместе со всеми говоришь глупые слова, будто навсегда отцвела голубая лилия?
Толпа замерла, будто лишившись дыхания. Володя толком ничего не понял, но догадался, что старая Унгхыр откуда-то знает этого шамана.
А тот опустил бубен на землю и подошел к Унгхыр:
— Что такое ты говоришь, женщина-оборотень?
— Я не оборотень, Ючин, — ответила Унгхыр. — Чего ты меня боишься? Ты человек — и я тоже человек.
— Тогда откуда знаешь старые имена? Да, меня звали когда-то Ючин, храбрый охотник Ючин. Но кто теперь то имя помнит? Зовут меня теперь Чернонд.
«Какое красивое, благородное имя у этого жуткого старика. Прямо как у средневекового рыцаря!» — подумал Володя, но Унгхыр испуганно вскричала:
— Какое страшное теперь у тебя имя! Чернонд — «Плач у погребального костра»!
— Да, — сказал шамай. — Плач у погребального костра. После гибели моей невесты Хонглик вся моя жизнь — плач. Только не было у нее погребального костра. Ушла ли ее душа в Млыво — кто знает? Много душ мне удается встретить, камлая, но ее душа обходит меня. Наверное, потому, что взял себе другую жену: сына она мне родила, но умерла вскоре. Но много, много зим и весен я ждал возвращения Хонглик…
— О Ючин, душа твоей Хонглик обратилась в тахть, летает вместе с душами других подруг под ночным небом. Помнишь ли ты ее подруг, Ючин? Вместе они летают: Хонглик, Нымгук, Саньпак, Вакук…
— Откуда знаешь?! — не поверил шаман.
— Я Унгхыр! Неужели ты не узнал меня?!
Шаман весь вытянулся, вглядываясь в ее морщинистое лицо. Было так тихо, что слух различал, как шуршат кудрявые стружки о желтые еловые иглы.
— Унгхыр… Я помню тебя, какой ты была… Унгхыр… Что теперь ты! Что теперь я! Другим стал я!