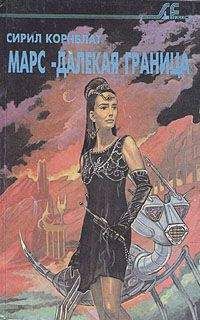Конечно, в Дженерал Эдванс было открыто. Через окно можно было видеть респектабельного молодого человека и изящную девушку, так и готовых вам помочь, в какой бы тяжелой финансовой ситуации вы не оказались. Он вошел, и его провели в кабинку, где полногрудая сладкоголосая блондинка вся из себя так и исходила симпатией к посетителю. Кен вышел оттуда с чеком на полторы тысячи долларов, подписав огромное количество бумаг, причем сладкая ручка этой девушки прямо водила его рукой. Только Бог и Дженерал Эдванс ведали, что было написано в этих бумагах. Мужики в очереди говорили ему в отчаянии, что им теперь придется всю оставшуюся жизнь выплачивать Дженерал Эдванс огромные суммы. Какие-то другие типы с горечью сказали, что Дженерал Эдванс принадлежит Ригановскому Благотворительному Фонду, что наверняка было ложью.
Улицы были полны народу — зевак, так не похожих на милых твоему сердцу художников. Мускулистые мужчины в чикагском стиле, и если кто-нибудь из них кого-то бил, это было совсем не сладко. Проходя мимо друг друга, они в упор вглядывались в лица.
Ему было страшно. Он поспешил домой, надеясь найти там хотя бы временное прибежище. Но и там его расшатанным нервам отдыха не было. Когда он произнес «Риган», входные двери перед ним распахнулись, но в ответ на его слова «Седьмой этаж» лифт застыл в неподвижности. Он процедил по слогам: «Седь-мой э-таж». С противным пневматическим шорохом двери закрылись, и он оказался на восьмом этаже. Кен спустился на этаж ниже и проговорил своим входным дверям: «голубой кобальт». Предварительно он окинул взглядом коридор. Двери сработали, и он отправился к телефону сообщить Лэтаму, что раздобыл денег, но по дороге передумал. Вместо этого Оливер уселся в серовато-коричневое пневмокресло, а дверной микрофон Хойторн Электрик Степсейвер за 250 долларов следил за ним своим свиным бездумным рылом. Он нажал на кнопку кресла, и шестисотдолларовый магнитофон выбрал наугад ленту. Комнату заполнило длинное мелодичное соло на трубе. Через два такта оно замерло, и за дело принялись ударные да деревянные духовые, которые все наращивали темп…
Оливер выключил музыку, со лба его капал пот. Это была «Потерянная симфония» Гершвина, и он вспомнил, как тот умер. В его мозгу тоже была маленькая опухоль, как и у Кена в горле.
Пора, Великий Обмащик. Годы уходят. Вдруг ты обнаруживаешь себя стариком, бегающим по врачам. Вдруг они говорят тебе, что надо вырезать гортань, или ты будешь умирать мучительной смертью. И что ты можешь предъявить в ответ на это? Свой регистрационный номер, паспорт, чек от Дженерал Эдванс, кучу ненужных тебе шмоток, работу, которая тяжелее любого ядра с цепью, носившихся осужденными во времена этого варварского Правительства. Разве за это боролись Риган и Фалькаро?
Он развернул гамбургер, подогрел его, съел и машинально отправился в ближайший кабак. Ему не нравилось поддавать каждый вечер, но ты должен быть как все, иначе кто-нибудь настучит на тебя на фабрику, и можешь ожидать очередного пятна в личном деле. Еще и в Хоторпе будет пара скачек, и от тебя ждут, что ты поставишь там пару долларов. О выигрыше никогда и речи не было. Никто из его знакомых ни разу не выиграл. Ни на скачках, ни за карточным столом, ни в рулетку.
Кен долго простоял перед освещенной неоновым светом витриной, потом повернулся и пошел в темноту подальше от этого города, ведомый импульсом, которого не понимал и не хотел понимать. В нем теплилась какая-то слабая надежда, что вид темного озера сможет как-то облегчить его страдания.
Через полчаса он вышел к реденькому лесочку, потом к соснам, потом к колючему кустарнику: жухлая трава и за ней — чистый белый песок. Лежа на нем, он заметил двоих — мужчину, такого изможденного и грязного, что, казалось, он был вытесан из дуба, и женщину, настолько бледную, что она казалась вырезанной из слоновой кости.
Кен застенчиво отвернулся от женщины. — С вами все в порядке? — спросил он у мужчины. — Могу я чем-нибудь помочь?
Мужчина открыл воспаленные глаза. — Лучше оставьте нас, — проговорил тот, — мы вам принесем одни неприятности.
Оливер истерично расхохотался. — Неприятности? Можете о них не думать!
Казалось, мужчина оценивает его взглядом, и, наконец.
он проговорил:
— Лучше идите и никому про нас не говорите. Мы — враги Крими.
После некоторого молчания Оливер сказал:
— Я тоже. Не уходите никуда, я вернусь, и принесу для вас с леди кое-что из одежды и еды. А потом я помогу вам перебраться ко мне. Я тоже враг Крими. До этого момента я сам этого не знал.
Он пошел прочь и тут же вернулся. — Ведь вы не уйдете? Я прошу вас. Я хочу вам помочь. Похоже, что себя я уже помочь не в силах, но, может быть…
Мужчина устало произнес:
— Мы не уйдем.
Оливер поспешил домой. В сосновом бору сегодня чем-то пахло. Он уже прошел полдороги, когда понял, что это был за запах — запах горевшей нефти.
Ли тихо выругалась и сказала:
— Если я захочу, я смогу встать.
— Ты останешься в постели, хочешь ты того или нет, — ответил Чарлз. — Ты — больная женщина.
— Я — женщина в плохом настроении, а это означает, что я выздоравливаю. Спроси кою угодно.
— Сейчас выйду на улицу, дорогая, и спрошу.
Она вылезла из постели и накинула на себя пижаму Оливера. — Я снова хочу есть!
— Он скоро вернется. Ты не оставила ни крошки — кроме, может, чего-то замороженного, каких-то червяков, похоже.
Разморозить?
— Не беспокойся, пожалуйста. Я могу подождать.
— Окно! — вскрикнул Орсино.
Она отскочила в сторону и снова выругалась, теперь уже в свой адрес. — Прости, если кто-нибудь меня увидит и начнет глазеть, ведь это будет так приятно.
Вернулся Оливер с кучей свертков. Ли чмокнула его, и он стыдливо улыбнулся.
— Форель, — прошептал Кен. Ли схватила свертки и исчезла в кухне.
— Путь к сердцу Ли Фалькаро, — произнес Чарлз. Как твое горло, Кен?
— Сегодня не болит, — прошептал Оливер. — Лэтам говорит, что мне можно говорить, сколько заблагорассудиться. И у меня есть новости, о которых стоит поговорить. — Он распахнул плащ и достал из-за ремня плоский пакет. — Я стащил его с фабрики. Кисти, карандаши, чернила, чертежные инструменты. Друзья мои, вы вернетесь в Синдик на уровне, с паспортом и со всеми положенными разрешениями!
Ли вернулась.
— Форель уже жарится. Я слышала, что вы говорили о паспортах. Ты уверен, что сможешь их надуть?
Его лицо вытянулось.
— Восемь лет Чикагского института искусств, — прошептал он. — Три года в Ориджинэл Репродакшнз, Инк. Одиннадцать лет в Пикассо Ойл энд Этчинз, где я уже достиг положения третьего по рангу чертежника Голубого Отдела. Думаю, мне удастся рассеять ваши сомнения.