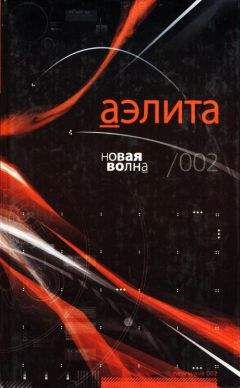Вышли осоловевшие, щурясь на полуденное солнце. Над черепичными крышами колебался воздух.
— Поедем домой? — надевая шляпку, спросила Ирочка.
Дети нестройно загалдели.
— Кататься, — улыбнулся Феличе. — Праздновать так праздновать.
Они опять набились в длинную, оттенка слоновой кости «каталину», понеслись, хохоча и падая друг на друга, когда улица ныряла вниз. Было странно точно заново узнавать знакомые улицы, вспоминать названия, угадывать, какой дом, какое дерево бросится сейчас навстречу, и сидят ли страждущие кошаки в подворотне Заревой Брамы, откуда ощутимо потягивает валерьянкой…
Коты сидели. В положенных количествах. В воротах клубилась толпа верников, сладкий запах ладана плыл над тополями. Звонили к мессе, весь июнь литании в честь сердца Иисуса, трепетали огоньки свечей. «Каталина» увязла в толпе, как оса в мармеладе. Феличе заглушил мотор. Дети завозились, стремясь вырваться на свободу.
— Сидеть, — железным тоном объявила Ирочка. — Сейчас старшие сходят и все выяснят.
— Вот и покатались, — скандально начал Кешка. Подергал Халька за рукав: — Дядь Саш, я с вами!
— Ага, без тебя мы заблудимся.
— Сядь, ребенок, — сказал Феличе. Спорить с кузеном младший Сорэн не отважился.
Они пошли навстречу толпе, смешались с людским потоком, проникли в узкое пространство ворот. Сильнее всего Хальк опасался, что их с Феличе разнесет в разные стороны, но тот легко ввинчивался в людское варево, и оно раздавалось, оставляя им проход. Потом неожиданно, враз, иссякло, и Хальк с Феличе оказались на пустой мостовой, перед железной оградой, зарослями пышных пионов и ирисов за нею, каменными ступеньками к распахнутым настежь церковным дверям. Там было пусто, в глубине, пахнущей воском и ладаном, золотенько дрожали свечи, на ступенях лежали солнечные пятна.
— Присядем, — сказал Феличе. — Мне нужно с вами поговорить.
Хальк прослушал приглашение; стоял и таращился на церковный фасад, на икону, выставленную в розетку над дверьми. Что-то было не так. Небо, чертящие синеву голуби… потом он догадался. Вместо Девы Оранты с иконы смотрел средних лет мужик с мечом и в латах, к коим никак не подходила золотистая кудреватая бороденка и кроткий, аки у горлинки, взгляд. Тоже мне, Архистратиг Рене… Хальк вдруг подумал, что в этом мире, с такими вот… мнэ-э… иконами, совершенно нет места ни Ирочке, ни лагерю и палаткам… а вот Феличе вписывался чудесно.
Бледная молния вспорола небо над шпилями колоколен.
Прислоняя спичку лодочкой ладони, Хальк закурил:
— Скажите… Скажи. Ты ведь не просто так.
— Да, я хочу с тобой поговорить.
Хальк оступился, сломав каблуком цветочный стебель, сел. Ступенька оказалась прогретой и шершавой.
— Ну конечно, — сказал Хальк. — О чем мы будем говорить?
— Я расскажу тебе сказку.
— A-а, интересно… Один мой друг, граф де ля Фер…
— Нет, не так.
Александр заглянул Феличе в глаза и увидел, что они резко, неожиданно синие.
— Ты зачем на ристалище полез? С деревянным мечом?
Хальк скучно доломал стебель, повертел в руках розовый, похожий на капусту пион. Полетели брызги.
— Проповедник, — произнес он, — Хранитель, аватара Господа на земле. Ну что ты лезешь не в свое дело?
— Вообще-то оно — мое… дело, — с расстановкой произнес Феличе, — но не будем заострять. Я сказку обещал.
Над мощеными уличками Старого Эйле лениво точился знойный летний день. На обласканных солнцем ступеньках было прозрачно и тоже невыносимо жарко, пахло примятой зеленью, в цветах копошились и гудели насекомые. Отчего же холодно так?
— Один человек однажды сочинял сказку. Детское желание могущества, бессмертный король и все такое. А потом прочитал ваше… ваши… прочитал, в общем. Знаешь, ревность — это ужасно; в особенности, когда ревнуешь не к женщине, а к тексту.
Феличе говорил, а Хальк сидел и слушал и почему-то чувствовал то, чего чувствовать никак не мог. Это было, словно, ну пусть не пишешь — ощущаешь текст, и он возникает рядом с тобой, и чужие придуманные чувства, мысли, восприятие делаются живыми. Твоими. И привкус на языке — сладость и яблоки. До отвращения.
Феличе не ждал ответа. Он рассказывал. Про костры, расстрелы, молнии над Твиртове, про серый и тусклый мир, про клинки из дерева, которые могут с приходом Посланца превратиться в сталь. Про Одинокого Бога, что перекраивал, сотворял свой мир, будучи твердо уверен, что все оно там, в сказке, выдумка и совсем не страшно.
— А вы, Хранитель миров, воплощение Господа, этого вашего Корабельщика? Куда вы смотрели?!
Глаза Феличе — зеленые, нет, все-таки синие — на загорелом неправильном лице.
— Я нашел Алису. Ту, что способна все исправить. Я заставил мессира Яррана свернуть на дорогу, которой он никогда не ездил. Там были в снегу отпечатки подков и раненая женщина. Мы подобрали ее и привезли… домой.
Хальк тупо уставился на рассыпанные по коленям и на ступеньках розоватые лепестки.
— Мессир барон Катуарский… Каменный Гость… картон раскрашенный… он зачем понадобился? — Александр знал, что спрашивает совсем ненужное, не то, но спрашивать то — просто не хватило отваги. — Когда она, А-алиса, пропала, почему он ее не искал, не беспокоился?
Феличе улыбнулся:
— Ну, может, он и беспокоится, мечется по Эрлирангорду, весь Круг на ноги поднял, волосы на себе рвет. Ты ведь еще не писал про это. А знаешь почему? Ты не хочешь об этом писать. Ты не хочешь даже там, в сказке, ни с кем Алису делить.
— Я не понимаю…
Управляющий встал, провел по волосам ладонями, потянулся, отряхнул брюки.
— Пойдем? У нас еще есть дела.
Александр Юрьевич тупо смотрел ему в спину.
…Розы были ослепительны. Хотелось зажмуриться и так стоять, вдыхая сладковатый с кислинкой запах. Но в цветочных магазинах столбенеть как-то не принято.
— Заверните, — сказал человек, подбородком указывая на цветы.
Девица за прилавком очнулась от зимней спячки. Равнодушным взглядом обшарила покупателя с ног до головы — видимо, оценивая на предмет платежеспособности. Скривились вампирически алые губы.
— Сколько?
— А сколько есть?
Она оглянулась на стоящее в глубине ведро.
— Ну… штук пятьдесят.
— Вот все и заверните.
Снег все сыпал и сыпал, сугробами оседал на ресницах, превращая мир в расплывчатую, радужную сказку. Предательски ровным ковром ложился на обледенелую землю.