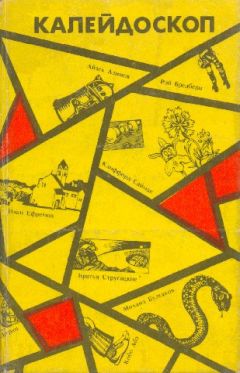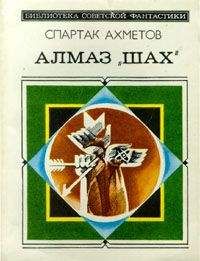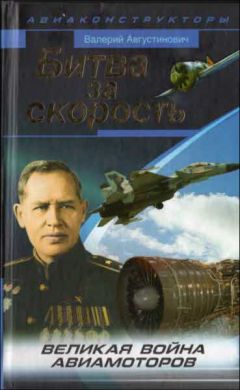О Феофан, Феофан! Дико торчащие смоляные волосы и борода, горящие гневом аспидные глаза под мохнатыми бровями. Яростный бас, от которого гасли церковные свечи. Непримиримый и необузданный нравом Феофан… Отцом родным и защитой был он для бурсаков. Это он двадцатилетнего Михайлу от исключения из Славяно-греко-латинской академии спас, когда открылось крестьянское происхождение. В доме своем приютил, за границу на учебу отправил. Это его огненными проповедями вдохновленный, писал Ломоносов торжественные оды. Это он внушал учение Коперника и Галилея, указывал на многие невнятности Священного писания. Прежде церковного долга призывал исполнять долг гражданский. Доныне помнит Ломоносов латинские вирши Феофана Прокоповича, в которых Галилей провозглашался деятельным служителем природы, а папа Урбан VIII — нечестивым тираном:
Почто ты, папа, судишь Галилея?
Ты, яко крот, слепой, а он — Линчея!
Как и Ломоносова, Феофана терзали враги. Писали в доносах, что он на освященную воду ядом блюет, что мощи святые в Киево-Печерской лавре хулит… Свели прежде времени в могилу сподвижника Петра Великого…
Глаза Ломоносова налились злыми слезами. Он пошел по саду, перешибая тростью стебли травы — будто сек долгогривых хулителей Феофана. Вспомнилось вдруг, как архиепископ, хохоча, пересказывал книгу Сирано де Бержерака. Носатый француз издевался: предполагать-де, что огромное светило вертится вокруг Земли, до коей ему и дела нет, столь же нелепо, как при виде зажаренного жаворонка думать, что его приготовили, вращая вокруг него плиту. Глаза Ломоносова засветились: эта здравая мысль, переложенная на поэтический язык, может украсить статью. Поспешил к журналу записать две окончательные строки, которые бились в голове:
Кто видел простака из поваров такого,
Который бы вертел очаг кругом жаркого?
После сего стихотворения нелишне будет указать, что Коперникова система имеет преславное употребление в астрономии. Галилей, Кеплер, Невтон довели ее в предсказаниях небесных явлений до такой точности, каковая по земностоятельной системе достигнута быть не может. Конечно, если расчеты производит изрядный астроном, а не пресловутый Эпинус. Тем единственным и плох был архиепископ Феофан, что немцев чрез меры любил, перед западной наукой преклонялся. А он, Ломоносов, коренной руссак. Он немцев в академии и словесами бил, и кулаками зубы поправлял, и под арестом за то сидел без малого год. И впредь так будет, потому что на бездарных иноземцах науку не поставишь. Российская земля сама может собственных Платонов и Невтонов рождать. Так-то…
Хронометр показывал половину одиннадцатого. Солнце стояло высоко и зноем поливало сад. Гудели пчелы. Ломоносов обтер париком лицо, поправил телескоп. Солнечные лучи слепили глаза. Тогда он прорвал круглую дыру в листе бумаги и надел ее на трубу. Получился защитный экран. Теперь ничто не мешало наблюдать черный шарик Венеры, заканчивающий странствие по солнечному диску. Ну-ка потрудитесь, отдохнувшие глаза!
Ломоносов, неудобно изогнув шею, застыл у телескопа. Венера медленно приближалась к солнечному краю. Как там здравствует атмосфера?.. И вот, когда до края Солнца осталось расстояние в десятую долю Венериного диаметра, на нем возник пупырь, который все более вздувался, чем дальше Венера выступала из Солнца. Затем пупырь пропал, лопнул, и Венера показалась без края, будто его ножом срезало. Она превратилась в щербину на ровном солнечном диске. Щербинка умалялась, сходила на нет. В момент отрыва планеты от солнечного края на нем появилась знакомая замутненность, опять же внесенная атмосферой. Все!
Ломоносов разогнулся и захохотал. Мысль о том, что он за миллионы верст углядел вокруг Венеры атмосферу, наполнила его восторгом. Сколь несравненно могущество науки! Он отшвырнул трость и забегал по саду, сшибая головой яблоневый цвет. Ай да Михайло!.. Чем не рысьеглазый?.. Он остановился. А как же прочие обсерваторы? Удалось ли узреть атмосферное сияние и пупырь на краю Солнца Курганову и Красильникову, Попову и Румовскому? Западным астрономам? Не явилась ли им помехой облачность?.. Надобно незамедлительно статью писать. Надо сообщить ученому миру обо всем, что приметил.
Ломоносов заулыбался, будто уже держал в руках тонкие книжицы на русском и немецком (что поделаешь — Запад по-русски не разумеет) языках и читает приятные глазам слова: «По сим примечаниям господин советник Ломоносов рассуждает, что планета Венера окружена знатною воздушною атмосферою, таковою (лишь бы не большею), какова обливается около нашего шара земного».
Несколько часов вечерний бриз нес их над Венерой. Ломов время от времени включал ультрафиолетовое зрение, любовался солнцем. Оно почти касалось вздыбленного горизонта и напоминало мяч для игры в регби. Ломов вращался вместе с несущим шаром, с любопытством наблюдая, как из-за правого плеча выступает черное солнце, неторопливо проплывает по экрану и торжественно скрывается за левым плечом. Ночная сторона Венеры была мертвенно серой, а при выключении ультрафиолетового зрения проваливалась в угольную темноту.
— Жалко, что вулканов не видно, — вздохнул Ломов. — Вот было бы зрелище!
— Тебе все удовольствия подай, — буркнул Галин.
Он висел под шаром почти горизонтально и солнца не видел. Внизу проплывало нагромождение скал Гекубы. Некоторые пики поднимались так высоко, что едва не царапали по животу. Галин переменил бы позу, но не хотел рисковать. Управление манипуляторами могло быть повреждено при отстреле.
— Полет под шарами, — не унимался Ломов, — это спорт грядущего.
— Ну да. Я вижу, как спортсмены парят над памятником Неизвестному Ломову и салютуют надруками.
— А что? Потомки должны благодарить… Долго еще лететь?
— Часов пятнадцать.
— Соболезную. Гурману придется обедать в подвешенном состоянии.
— Старик, поглядывай по сторонам. Я вздремну.
— Ты еще и спать можешь? Железный человек!
Галин промолчал. Он смотрел на неясную линию терминатора, которая медленно сползала с хребта Гекубы. Дальше шла непроглядная чернота — тень от невысокого хребта Сафо, вершины которого уже маячили вдали. «Километров пятьдесят, — подумал Галин. — Потом откроется долина Блейка с озерками расплавленного металла… Договорится ли Миша с Кианом? Должен, иначе «Очерки планетологии» не появятся. Впрочем, «Тетру» найдут. Как говорится, рукописи не горят…»