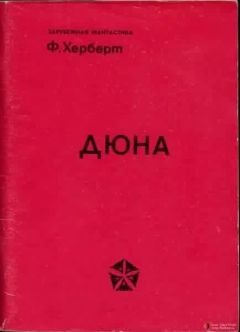— А есть что прощать?
Джессика нахмурилась, размышляя: «Сказать ли ему о моем козыре? Сказать о дочери Герцога, которую я уже несколько недель ношу под сердцем? Нет… Сам Лето еще не знает об этом. Это только осложнит его жизнь, рассеет его внимание в то время, как он должен сосредоточить все свои силы на борьбу за наши жизни. Еще не пришло время об этом говорить».
— Знающий правду разрешил бы этот наш спор, — сказала она, — но у нас нет такого человека.
— Как скажете. У нас нет человека, знающего правду.
— Среди нас есть предатель? — спросила она. — Я изучила наших людей с огромным вниманием. Кто это может быть? Не Гурни, и, конечно, не Дункан. Их лейтенанты недостаточно опытны, чтобы решать серьезные дела. Это не вы, Зуфир. Это не может быть Пол. Я знаю, что это не я. Тогда доктор Уйе. Следует ли мне позвать его и устроить ему испытание?
— Вы знаете, что это напрасный жест, — сказал Хават. — Он был воспитан Высшим Колледжем. Это я знаю наверняка.
— Без упоминания того, что его жена была убита Харконненами и она была Бене Гессери, — сказала Джессика.
— Так вот, что с ней случилось, — сказал Хават.
— Разве вы не слышите ненависти в его голосе, когда он говорит о Харконненах?
— Что заставило вас подозревать меня? — спросила она.
Хават нахмурился.
— Моя госпожа ставит своего слугу в неудобное положение. Мой первый хозяин — Герцог.
— За это я готова тебе многое простить.
— И снова я должен спросить: есть ли что прощать?
— Безвыходное положение? — спросила она.
Он пожал плечами.
— Давай тогда обсудим что-нибудь еще, — сказала она. — Например, Дункана Айдахо, великолепного воина, чьи способности к охране и наблюдению заслуживают глубокого уважения. Сегодня вечером он переусердствовал кое в чем, носящем название пиво со спайсом. Я слышала, что и другие среди наших людей были одурманены этой смесью. Это верно?
— У вас есть собственные источники информации, моя госпожа?
— Да, есть. Неужели вы не рассматриваете это пьянство, как симптом, Зуфир?
— Моя госпожа говорит загадками.
— Напрягите свои способности ментата! — крикнула она. — В чем причина того, что происходит с Дунканом и остальными? Могу ответить вам: у них нет дома.
Он указал пальцем на пол:
— Арраки — вот их дом.
— Арраки для них — неизвестная земля. Их домом был Келадан, но мы лишились этого дома. У них нет дома и они боятся, что Герцог их покинет.
Он окаменел.
— Если бы так заговорил один из наших людей, то это можно было счесть…
— Ах, прекратите, Зуфир. Разве доктор, поставивший правильный диагноз, совершает предательство? Разве можно его за это считать пораженцем? Единственное мое намерение — это вы лечить болезнь.
— Герцог доверяет мне в этих вещах.
— Но вы должны понимать, что у меня есть единственный опыт в лечении таких болезней, — сказала она. — И, возможно, ты согласишься, что у меня есть некоторые возможности для этого.
«Придется ли мне ввести его в более жестокий шок? — спросила она себя. — Он нуждался в встряске, в чем-то, что выбьет его из состояния рутины».
— У вашего умения может быть много интерпретаций, — сказал Хават и пожал плечами.
— Вы уже вынесли мне обвинительный приговор?
— Конечно, нет, моя госпожа. Но я должен обратить внимание на любую возможность, и события покажут, насколько они верны.
— Угроза моему сыну прошла здесь, в этом доме, незамеченная вами, — сказала она. — Кто воспользовался этой возможностью?
Его лицо потемнело.
— Я принес свои сожаления Герцогу.
— Но сказали ли вы свои сожаления мне… или Полу?
Теперь он сердился уже открыто, выдавая свое состояние быстротой дыхания, и раздувающимися ноздрями, горящим взглядом. Она видела, как бьется жилка на его виске.
— Я — человек Герцога, — произнес он, раздельно выговаривая слова.
— Это не предательство, — сказала она. — Угроза в чем-то другом. Возможно, это имеет отношение к ласганам. Возможно, они рискнут поставить в нескольких ласганах часовые механизмы, нацеленные на домашние защитные поля.
— И кто сможет сказать после взрыва, не был ли он атомным? — спросил он. — Нет, моя госпожа, они не пойдут на нечто, настолько нелегальное. Радиация рассеивается долго и улики слишком серьезные. Нет, большая часть форм действия для них закрыта. Ставка должна делаться на предательство.
— Вы — человек Герцога, — фыркнула она. — Могли бы вы уничтожить его в попытке спасти?
Он глубоко вдохнул воздух, потом сказал:
— Если вы не виновны, я принесу вам самые унизительные извинения.
— Посмотрите на себя, Зуфир, — сказала она. — Люди живут лучше всего тогда, когда каждый из них имеет собственное место, когда каждый знает, что он делает, в обществе. Уничтожьте это место — погибнет и человек. Мы с вами, Зуфир, из всех тех, кто любит Герцога, лучше всего подходим для того, чтобы уничтожить его место. Разве не могла я нашептать о вас Герцогу ночью? Когда лучше всего западают в голову подобные подозрения? Следует ли мне говорить яснее?
— Вы мне угрожаете? — проворчал он.
— Конечно нет. Я просто веду к тому, что кто-то действует против нас, используя для этого основное устройство нашей жизни. Это умно, по-дьявольски умно. Я предлагаю отразить эту атаку, организовав наши жизни так, чтобы подобные клинья некуда было вбить.
— Вы обвиняете меня в распространении беспочвенных подозрений?
— Беспочвенных — да.
— Вас больше устраивают собственные подозрения?
— Это твоя жизнь состоит из подозрений, не моя.
— Значит, вы ставите под сомнения мои возможности?
Она вздохнула.
— Зуфир, я хочу от тебя, чтобы ты исследовал мою эмоциональную вовлеченность в это дело. Настоящий человек — просто животное без логики. Твое представление о логике во всех делах неестественное, но продолжает оставаться таким. Ты — воплощение логики. Ментат. И все же решение твоих проблем во всех делах неестественное, но продолжает оставаться таким. Решение твоих проблем строится на том, что в самом прямом смысле этих слов, образуется вне тебя, требует всестороннего изучения и рассматривания, деятельного исследования со всех сторон.
— Вы решили поучить меня моему ремеслу? — спросил он, не скрывая презрения.
— Все, что находится вне тебя, ты можешь видеть, и ко всему применить логику, — сказала она. — Но такова сущность человека, что сталкиваешься с личными проблемами. Мы тем неохотнее обращаемся к их изучению, чем более глубокими они являются. Мы склонны барахтаться на поверхности, обвиняя все, что угодно, только не то истинное, что действительно мучает нас.