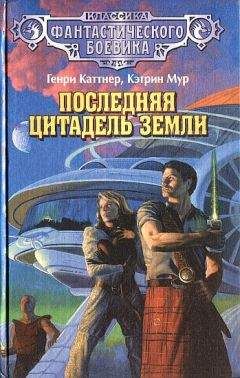Главк до сих пор отождествлял себя с птицеловом – весьма разборчивым птицеловом с округляющимся животиком. Большую часть своей жизни он провел, перемещаясь по ночам по Англии и Соединенным Штатам, то из мегаполиса в провинциальный городишко, то вновь в очередной мегаполис… Раскидывая сеть, он с бесконечным терпением поджидал редчайший, самый правильный, пушистый экземпляр, чтобы доставить его своим работодателям, не желая отвлекаться по мелочам на какую-то иную, простецкую птичку, чтобы таким уловом не умалить высокое искусство избранной профессии – и попутно не навлечь фатальный приговор на свое долгое и приятное существование.
Его работодатели порой направляли еще парочку-другую сборщиков в тот же самый регион, тот же самый город. Ни заработанная тяжким трудом должность, ни привилегии для них ничего не значили. А потом в голову пришла мысль: что если устранять своих конкурентов? Задача по большей части несложная, коль скоро соперников набирали желторотых и мало кто из них мог противопоставить свои навыки многоопытному Главку.
Ну, что было, то было. Сейчас от него требовалось ответить на объявление в газете – чужое объявление, – а потому он неспешными шагами мерил Пятую авеню, как если бы имел все права обделывать свои делишки средь бела дня: коренастый, широкоплечий, плотно сбитый мужчина неопределенных лет в сером деловом костюме поверх простой белой сорочки. Черный галстук охватывал могучую шею подобно петле виселицы. Пот бисером покрывал бледное, рябоватое лицо. Он приостановился в тени длинного навеса у входа в местный кинотеатр и извлек из кармана носовой платок. Руки у него были мускулистые и мощные, а пальцы он частенько сжимал в кулаки, пряча сбитые костяшки. В воздухе стояла прохлада, хотя сегодня в низко нависших облаках прорезалась трещина, а Главку никогда не нравилось солнце. Его тепло и отраженное от мокрого асфальта сияние напоминали о былых потерях – и в частности, об утраченной способности сожалеть. Солнечные лучи били в маленькие черные глазки и высвечивали зияющие бреши в мозгу, смахивающие на пустоты, оставленные на полке со старыми книгами.
Ноздри раздулись в сломанном носе картошкой. Веки полуприкрыты, платок вновь убран в карман, рука покоится на изящной черной тросточке… Словно на грубом холсте, выхваченном из мрака лучом «волшебного фонаря», Главк внутренним взором увидел унылого осла, запряженного в обшарпанную телегу, полную сетей, силков, сплетенных из ивовых прутьев клеток, со свисающими по бокам корзинами, полными чугунных звезд, которыми утяжеляют сети, чтобы их не снесло ветром… А вот и коноплянка, одуревшая в проволочном узилище, притороченном к скамейке возле возницы, горбатого и дряхлого птицелова… Предрассветная полумгла раннего весеннего утра накрывает улицу, словно тряпка клетку. Наставник юного Макса и единственный член семьи гримасничает, прикидывая, на какие поля наведаться и как далеко следует забраться на сей раз. В это время года они обычно отправлялись в Хаунслоу, за снегирями…
Вполуха прислушиваясь к тихому бормотанию своего хозяина-калеки, он, еще полусонный, пытается вязать силки из бечевок, едва не сваливаясь с телеги на трясучей булыжной мостовой. Он сидит позади, щелками опухших глаз уставившись в лиловый рассвет.
На обратном пути в Лондон Макс выбирал из сетей серые и пегие перья, попутно следя, чтобы не свалились и не раскрыли свой зев клетки, забитые сотнями писклявых, но постепенно умолкающих пленников, которые теснились друг к дружке перепуганными цыплятами, в ужасе закатывая и зажмуривая глаза. Многим из них суждено было погибнуть от шока еще до того, как их возьмут в руки сентиментальные, скучающие домохозяйки. Это тоже часть его работы: вытаскивать мертвые и умирающие тельца и вышвыривать их в придорожную канаву или в живые изгороди по обочинам. Иногда – уже в городе, правда, – юркие бурые крысы танцевали между колесами телеги, пируя на трупиках.
В спертом воздухе подвала горбун показывал Максу, как наигрывать на дудочке перед снегирями, как голодом и тряпками поверх клеток смирять новых, еще непокорных птиц, как насвистывать нотки, сладостной мечтой разгонявшие мрачную атмосферу, как краткими мигами солнца и скудной пищей вознаграждать старательные крошечные создания, наизусть запомнившие самые модные лондонские песенки.
Птицелов умер на шестидесятом году своей исполненной болью жизни, не в меру отведав горячительного. Перед тем как нежданно вернувшийся блудный сын горбуна вышвырнул ученика из ветхой, покосившейся хибары, которую тот именовал домом, Макс выпустил на волю остатки пернатых запасов – поднял плетеные крышки и, размахивая руками, поднял весь недельный улов в закопченное небо. Его финальный акт сострадания и милосердия.
В последний раз Главк навещал излюбленные охотничьи угодья старого горбуна вскоре после открытия железнодорожной станции Хаунслоу. Было любопытно и в то же время грустно видеть некогда знакомые поля застроенными желтыми кирпичными домиками, утопающими в садах, с аккуратными улицами и подъездными дорогами. После стольких лет не приходится удивляться переменам, зато для него жизнь по большому счету осталась прежней: он все так же добывал молоденькие существа на потребу самоуверенным джентльменам и их Даме. Впрочем, эту Даму – Алебастровую Княжну – нельзя назвать просто женщиной…
Кстати, утренний воздух тоже не изменился.
Поглубже убрав носовой платок, Главк всосал пламя в чашечку трубки, щелчком отшвырнул спичку и покинул тенистый навес. Он шел на юг, прочь от блестящего изобилия сине-зеленого стекла, красно-серого камня, бетона и стали – прочь от деловитой суеты учреждений и их служащих, все ближе и ближе к тем, кто с пустым взглядом стоит с протянутой рукой. Как ни крути, а все города одинаковы – процветание и богатство выдавливают слепую нужду на задворки.
Главк с профессиональным интересом приглядывался к местным обитателям, что стояли или на корточках сидели вдоль тротуаров, напоминая пыльных марионеток, – мошенники, бродячие фокусники, щипачи, перекати-поле, вечный наносной сор любого крупного города. Молодежь заслуживала специального внимания: кое-кто из них мог быть Ведуном или Пермутатором, не подозревающим о проклюнувшихся способностях… но все же интересным, особенно когда впадает в дрему.
В отличие от Лондона, центр Сиэтла можно пересечь спорым шагом с востока на запад менее чем за час – и заодно обработать улицы, хотя сам он предпочитал сидеть дома и просто ждать. Ждать, скрываясь за маской терпеливого птицелова, столь обманчиво смахивающей на безмятежность.
Серый «мерседес» он обнаружил на неряшливой платной парковке. Заднее стекло позолочено табачным дымом, на водительском сиденье двенадцать квитанций, по одной за каждый день стоянки. Возле дверных ручек чьи-то острые ногти прокарябали борозды в слое сажи и копоти. Итак, вот и подтверждение: Чандлер со своей «зажигательной» компаньонкой действительно в городе.
Свернув на восток, Главк замедлил шаг, читая номера домов, пока не нашел гостиницу «Золотая лихорадка». Здесь он остановился, стукнул тростью о тротуар и сделал долгий, протяжный выдох, сопровождавшийся задумчивым стоном. За тяжелой стеклянной дверью гостиницы, притулившейся между лавчонкой восточных редкостей и разорившимся магазином ношеной одежды, узкий запыленный холл предлагал сомнительное гостеприимство. Краска цвета кофейной жижи, толстым слоем покрывавшая неоштукатуренные стены, грязными ошметками свисала с гипсовых молдингов. Две квадратные бурые кушетки и ветхий стул выжидающе стояли у черного столика. На изъеденной сигаретными ожогами столешнице лежала пачка бесплатных газет «Незнакомец» и «Сиэтл уикли» поверх сиротливо болтавшегося обрывка бечевки.
Клерк средних лет выглянул из своего укрытия позади регистраторской стойки и смерил Главка взглядом, на что тот приветливо кивнул, словно они уже встречались.
– Мистер Чандлер у себя? – любезно осведомился он. – У меня с ним назначена встреча.
Клерк нахмурился.
– Хотите, звоните отсюда. А хотите, так поднимайтесь.
Лондон – колючее гнездо для разнесчастных, едва оперившихся птенцов – вскоре ощипал юного Макса до бугристых мускулов, кровоподтеков, взгляда с прищуром и лютой злобы. Двенадцатилетний мальчишка, после смерти старого птицелова вновь оказавшийся на улице, проявил себя умелым игроком в орлянку и недюжинным картежником. Спервоначалу голод и неопытность швырнули его в месиво уличных драк, где он заполучил сбитые, но закаленные костяшки, расплющенные уши и три шишки на плохо вправленном носу. В довершение всего спуск кубарем по длинной каменной лестнице во время потасовки в трактире поставил окончательный штрих в его внешнем облике: от сильного удара головой он перестал расти, так и оставшись при своих ста шестидесяти сантиметрах. Мало кто мог совладать с бульдожьими повадками парнишки, так что не прошло и нескольких месяцев, как он отвоевал себе место телохранителя при далеко не бедных джентльменах, чей вкус к картам, потаскухам и, как они выражались, «причудам» невозможно было насытить. События и происшествия, свидетелем которых он отныне стал, и дела, которые ему теперь поручали, своим первобытным ужасом превосходили все, что он видел в бытность учеником птицелова. Клиенты, их партнеры и заклятые враги давали себе волю, награждая его разнообразными прозвищами: палач, кулак, дупель, горилла… За два года он научился держать рот на замке, не забывая, впрочем, греть руки, пока его работодатели младенчески гукали, опившись или обкурившись до беспамятства.