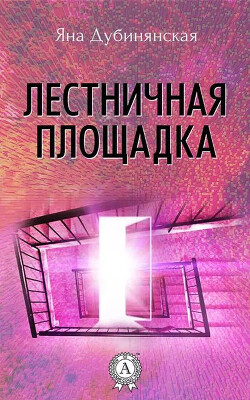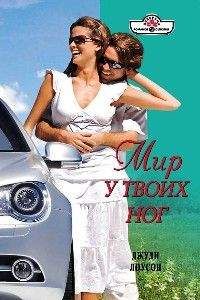Она даже не переступила порога, даже не открыла полностью дверь — из приотворенного проема брызнул свет, и это была она, яркая, сияющая. Тонкая, как сфокусированный линзой луч, светлая, чистая. Великолепные нечеловеческие глаза, а волосы она тогда гладко зачесала, и лишь потом он узнал, какие у нее роскошные волосы… Потом он узнал о ней все, что сумел. Потом началось. Как только она закрыла дверь, уничтожила ослепительный узкий просвет, растворилась, исчезла. Все почему-то звонко застучали бокалами с одобрительными возгласами, предназначенными, как ни странно, его тосту… тому нелепому тосту, произнесенному вечность назад. И пришлось выпить с ними, вино обожгло стиснутое горло, но зато после этого он смог говорить и спросил у молодого веснушчатого ассистента:
— Кто это?
— Да? — тот, пережевывая икру, с недоумением повернулся к нему. Между произнесением старым профессором тоста и звоном бокалов ничего не произошло, между этими двумя действиями никогда ничего не происходит. А впрочем, профессор мог заинтересоваться кем угодно, но откуда ж ему, ассистенту, знать, кем именно?
Парень улыбнулся и вежливо спросил несусветную глупость:
— Кого вы имеете в виду?
Захотелось его ударить. Или, резко рванув скатерть, смести все со стола, или раздавить стеклянный бокал в руке… Он объяснил медленно и понятно, словно диктовал завещание:
— Я спросил, не знаете ли вы, кто та девушка, которая только что сюда заглядывала?
Ассистент пожал плечами:
— Студентка. То ли третий курс, то ли четвертый.. В воздухе пахло духами. Не ее.
Он начал появляться в университете каждый день. Он смотрел, как она входит в широкие стеклянные двери, как взбегает по лестнице, как бросает взгляд на большие стенные часы, опаздывая на лекцию. Как болтает с подружками, как смеется, как расчесывает длинные волосы, как закрывает глаза, подставляя лицо солнцу на скамейке перед университетом.
Ее звали Инга — имя для рослой блондинки, а она была хрупкая, темноволосая, смуглая — и все равно очень светлая, сияющая. Она носила белое кремовое, и глаза у нее были светлые и яркие, сверкающие изнутри золотыми искрами. Она приехала из далекой провинции, с юга, снимала квартиру на троих с подружками, весело покоряла столицу и, конечно же, она была влюблена.
Его профессор видел один раз — высокого, красвого, видного, но темного и тусклого рядом с ней. Недостойного. А впрочем, никто не был бы достоин ее, в том числе он сам, более других он сам, и он это прекрасно понимал.
Он несколько раз здоровался с ней, встречаясь в вестибюле, и она отвечала не глядя, скороговоркой — дежурное приветствие незнакомому преподавателю. А он с изумлением обнаруживал, что даже этого ему вполне достаточно, чтобы несколько ближайших дней быть абсолютно счастливым.
Один раз он заплатил за нее в университетском буфете.
У стойки образовалась небольшая очередь, и позади стояла Инга в светло-бежевом костюме, с высокой прической, строгая и сосредоточенная. Он подошел неслышно и тихо встал за ней, почему-то не решаясь поздороваться. Инга стояла вполоборота, чуть сощурившись, она рассматривала прейскурант, а сзади на шее у нее вились маленькие волоски, не поместившиеся в прическу, совсем светлые, золотистые.
Она заказала апельсиновый сок и два коржика. Она раскрыла сумочку, узкая рука нырнула внутрь и задержалась там чуть дольше, чем нужно, а затем выложила прямо на стойку расческу, калькулятор, зеркальце…
— Черт возьми!
Отдать все, что угодно, — за то, чтобы она никогда не говорила «черт возьми», никогда не сводила на переносице брови, ища деньги в маленькой сумочке, никогда, никогда…
Он бросил на стойку крупную купюру, пробормотав что-то нечленораздельное, и стремительно зашагал прочь — бегство, и никак иначе. Он слышал за спиной голоса — продавщицы: «За вас заплатили, возьмите же сдачу» — и Инги: «Нет, подождите, я сейчас найду!»
Она догнала его в дверях буфета, ее сумочка была раскрыта, и он точно знал, что на стойке остался не только сок с коржиками, но и расческа, и зеркальце, и калькулятор…
— Зачем вы это сделали?
Потому что я люблю вас. Потому что я сумасшедший старик. Потому что ни на что большее меня не хватило. Он усмехнулся порочной улыбкой никчемного развратника и отвратительно-приторным голосом промямлил:
— У меня есть вредная привычка время от времени платить за хорошеньких девушек.
Несколько секунд она смотрела на него в упор, а потом вдруг просто сказала:
— Спасибо, — и пошла в буфет есть свои коржики и думать о чем угодно, но не о нем, ни секунды о нем.
Год назад. Да он и не мечтал тогда, что она будет думать, знать, помнить о его существовании. Он даже не пытался больше с ней заговорить. Только смотрел. Был счастлив, когда видел ее каждый день, мучительно переживал, когда она пропускала занятия… а Она пропускала их все чаще, и наступила зима, и однажды, стоя в морозную слякоть на ступеньках университета, он вдруг совершенно точно осознал, что она сюда больше не придет. Никогда.
Он разыскивал ее отчаянно, ввергнув в недоумение и своих бывших коллег, и бывших однокурсников Инги. Инги, которая вдруг исчезла, исчезла совсем. Он узнал, что она жива, — и только. Ни одного настоящего адреса, ни одной старой подруги, ни даже этого тусклого красивого парня… Ничего. Может быть, она даже поменяла имя.
Он попытался жить без нее. Жить дальше. Убедить себя, что это далеко не худший, а может, и самый достойный финал его странной истории. В конце концов, у нее в принципе не было будущего. Она могла выродиться либо в пошлую интрижку, либо в нелепую манию, и в обоих случаях он стал бы старым посмешищем, а Инга… Хорошо, что она так ничего и не узнала, что успела исчезнуть, раствориться в другой жизни, прежде чем он сознательно или невольно взвалил на нее этот груз. Хотя, может, для нее это и не было бы тяжестью — слишком незначительно, достаточно легковесно. Что он, собственно, знал о ней, о ее представлениях о жизни, о самой ее жизни — случилось же что-то, заставившее юную девушку все изменить, от всего отказаться. Может, она была по-настоящему несчастна… А он просто никчемный, самозацикленный эгоист.
Была зима, влажная промозглая зима, и он заболел. Воспаление легких, как тогда у Розалии. Как это было бы логично, как естественно. Закончилась длинная, не такая уж плохая жизнь, в которой, в сущности, все было. Прошедшее время. Если раньше он употреблял его с долей театральности, теперь оно совершенно нормально легло на сознание, расставив события и вещи по местам. Все у него было. И даже любовь.
Восторженный отчет докторов о неизмеримых возможностях своего могучего организма он воспринял как шутку дурного тона. Этой жизни, черт возьми, просто некуда было продолжаться. Что ж, он попытался подойти к этому как к ребусу — целыми днями, глядя в потолок, выискивал в пустом лабиринте ниточку, за которую можно было бы ухватиться.
И нашел.
Машина.
Хотя сама по себе машина тоже ничего не значила.
…Он резко щелкнул рубильником — туда-сюда, — так женщины пытаются вернуть к жизни сломавшийся телевизор. Естественно, не произошло Абсолютно ничего.
Поздняя ночь. Надо ложиться спать, а утром как-нибудь постараться не проснуться. Только ведь нe выйдет, и первой утренней мыслью будет: крах, полный крах… А впрочем, можно с утра перепаять контакты — тоже отсрочка, заведомо искусственная, но отдаляющая конец…
А она, наверное, еще не легла. Молодые поздно ложатся. Может быть, она сейчас принимает ванну — пенится шампунь, с шумом стекают струи, а она негромко напевает… а из спальни доносится раздраженный голос тусклого красавца: «Инга,ты скоро?»
И вдруг мертвая стрелка резко рванулась вверх, Дрыгнула на середину шкалы и заплясала там в неимоверно-быстром ритме, колеблясь между соседними делениями.
Он дернулся, как в электрошоке, но почему-то сразу не встал, он смотрел на дрожащую стрелку — Нe упустить момент, дождаться, пока она остановится! — но это же совсем не имеет значения, боже мой, совсем не имеет… кошмар, наваждение… Словно избавляясь от гипноза, он медленно отвел глаза в сторону — и, вскочив, ринулся туда, где…