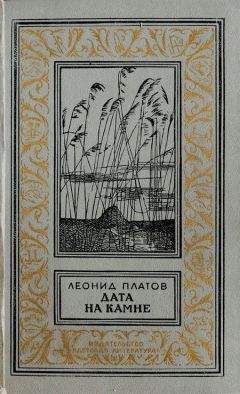Позапрошлой весной им пришлось покинуть старый Тассель, тот Тассель, который и по сей день они считали своим настоящим домом. Растения разбросали свое потомство по всем окрестным полям, хотя оставалось загадкой, как это получилось, ибо ни признаков цветения, ни хоть каких-то плодов у них не бывало. Они заполняли землю столь беззастенчиво, с такой наглой напористостью, что в конечном счете сводили на нет усилия людей, боровшихся с ними. Люди-то были слишком разобщены – они жили далеко друг от друга: город и окружавшие его фермы строились отнюдь не в расчете на осаду.
Первые три года люди справлялись с нашествием, опрыскивая побеги ядохимикатами, которые производились на правительственные субсидии. Дела как будто шли неплохо – так, по крайней мере, казалось. Растения, однако, стремительно вырабатывали иммунитет против любого снадобья, стоило его только выдумать; ну, а пока держалось правительство и работали ученые, новые препараты приходилось изобретать ежегодно. Но даже тогда опрыскивали лишь возделанные земли. На болотах и девственных берегах озер, в лесах и вдоль дорог побеги разрастались на глазах, недоступные никакому врагу, кроме топора. Топоров же было слишком мало, а Растений – чересчур много, так что вряд ли такой метод борьбы можно было принимать всерьез. Где бы ни появлялись Растения, всему остальному уже не хватало ни света, ни воды, ни даже земли. В конце концов, они окончательно вытеснили старые деревья, кусты и травы, и те попросту вымерли, а почвы поразила эрозия.
Вначале фермерской земли это не касалось – до поры до времени, конечно. Однако уже через три года Растения настолько заполонили поля и пастбища, что гибель культурных земель стала лишь вопросом времени. И, по сути дела, времени очень короткого: Растения буквально вгрызались в пространство, и на пятое лето от них уже нигде не было проходу.
Теперь на месте Тасселя остались мрачные руины. Навещая их, Бадди испытывал особое, печальное наслаждение. Впрочем, такие визиты имели и практический смысл: разгребая мусор, он, бывало, отыскивал старые инструменты, металлические листы, а случалось – даже книги. Съедобного, правда, ничего не попадалось – прошли те времена. Крысы и мародеры, которым удалось выбраться из Дулута, давным-давно подчистили то немногое, что могло остаться в Старом Тасселе после исхода и переселения в Новый. Поэтому Бадди прекратил поиски и приходил просто так – посидеть на ступенях конгрегационалистской церкви, которая неослабными стараниями его отца продолжала стоять среди последних уцелевших в городе зданий.
Раньше, ему помнилось, здесь рос дуб. Теперь на этом месте торчало Растение, проросшее сквозь тротуар, вдоль которого прежде тянулся городской парк. Дуб пустили на дрова еще в четвертую зиму. И вязы из парка тоже пошли на дрова. Естественно, ведь в вязах недостатка никогда не бывало.
Издалека донеслось скорбное мычание Грейси, которую на веревке тащили обратно в поселок. Бадди хватило этой погони выше головы, это было уже слишком. Ноги отказали. Он задумался, окончательно ли теперь перевелись герефорды. Может, и нет, раз Грейси стельная и еще довольно молодая корова. Если она отелится бычком, то для ее племени, возможно, не все потеряно, хотя надежда на добрый исход лишь едва теплится.
А на что, собственно, можно еще рассчитывать? Большего требовать не приходится. Он размышлял, много ли попавших в окружение общин, подобных Тасселю, смогло продержаться до сих пор. Последние два года единственной связью между поселком и внешним миром служили схваченные мародеры, но и они теперь попадались все реже. Похоже было, что жизнь в городах вовсе прекратилась.
Какое счастье, что он не видел этого, если даже руины маленького Тасселя нагоняли на него тоску. Он и не подозревал, что может так огорчаться. До нашествия Растений Тассель был для него воплощением всего, что, с его точки зрения, не стоило внимания и заслуживало презрения: ничтожные размеры, грубость, упрямое невежество и моральный кодекс, современный не более чем Книга Левит. А теперь он оплакивал его, словно павший перед римлянами и засеянный солью Карфаген или другой великий город – Вавилон.
Быть может, он оплакивал смерть не самого города, а те смерти, что стали ее слагаемыми. Когда-то здесь жило больше тысячи человек и вот почти все они мертвы, кроме жалкой кучки людей – лишь двести сорок семь душ, оставшихся в живых. Судьба слепа и безжалостна – выжили кто попало, лучшие – погибли.
Местный священник Пастерн и его жена Лоррейн. Они были добры к Бадди и поддерживали его стремление учиться в университете в ту пору, когда жизнь была нескончаемой и непримиримой враждой с отцом, желавшим непременно отослать сына в Дулут, в сельскохозяйственную школу. И Вивьен Сокульски, учительница четвертого класса. Единственная в городе взрослая женщина с чувством юмора и крупицей интеллекта. Да и многие другие. Гибнут всегда – лучшие.
Теперь вот – Джимми Ли. Рассуждая здраво, нельзя винить Растения в смерти Джимми. Его убили, но кто и как, Бадди не мог себе представить. Или хотя бы – за что? Прежде всего, почему? И все же Растения были так тесно, так родственно связаны со смертью, что стоило лишь почуять ее дыхание, как начинало казаться, будто рядом маячит их тень.
– Эй, приятель, привет! – Голос был сильный, музыкальный, красивого тембра. Так в оперетте звучат реплики героинь – обладательниц контральто. Однако, судя по реакции Бадди, можно было подумать, что красивый голос неприятно резанул ему слух.
– А, Грета… Шла бы ты отсюда.
В ответ раздался громкий хохот, настолько мощный, что, пожалуй, его услышали бы в последних рядах верхнего яруса самого высокого балкона, и перед Бадди собственной персоной предстала Грета, во плоти такая же полнокровная и сильная, как и ее внезапно оборвавшийся смех.
У нее был такой вид, словно выступала истцом в суде. Явление первое: Грета Андерсон, собственной персоной, стоит, подбоченясь, откинув плечи, выставив полные бедра, утопая в грязи босыми ногами, точно корнями, уходящими в землю. Она была достойна лучшего наряда, чем надетая на ней бумазейная блузка. В уборе из материи побогаче и поярче расцветками да при хорошем питании тип ее красоты, без сомнения, затмил бы любой другой; она и сейчас выглядела не измочаленной жизнью, а лишь чуточку перезрелой.
– Что-то я тебя почти не встречаю. Живем вроде дверь в дверь…
– Если не считать, что и дверей-то нет.
– …а я тебя неделями не вижу. Мне порой кажется, что ты меня избегаешь.
– Не без того. Но сама видишь – не удается. Ну, что не идешь готовить мужу обед, как положено хорошей жене? Вообще, не день сегодня, а дрянь какая-то.