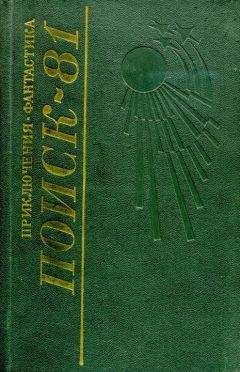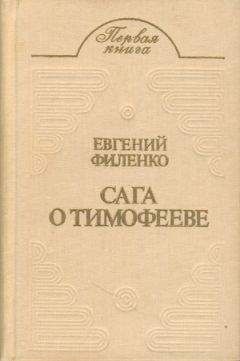— Голова у тебя всякой всячины набита, — рассердился Яков.
— Это верно, набита, — согласился Зашиба.
Не то волнует Якова, не божьи споры. Манит его мутная лунная даль, будто откроется за нею такое, о чем всю жизнь тосковал. А тоска эта хуже бессонницы.
Говорят, человек поймет, что есть родина, когда потеряет ее. Говорят, прозреет он и поймет, что есть жизнь, в последний ее миг. Что ищут на земле люди? Что ищет он, Яков, сын кривого Прокши?
— Явился однажды господь перед умирающим с голоду, — снова стал рассказывать Зашиба. — Сказал: — Что ты хочешь? Проси — и я тебе дам. «Дай хлеба», — сказал умирающий с голоду. «Только хлеба? — удивился господь бог. — Проси лучше золота. На золото ты купишь еды сколько хочешь». «Дай золота», — сказал умирающий с голоду. «Только золота? — спросил господь. — Я могу дать тебе власть и все богатства твоих подданных будут твоими». «Дай власть», — взмолился умирающий с голоду. «Ты просишь только власти? — усмехнулся господь. — Все можно взять силой, кроме любви. А любовь дороже всех сокровищ». «Дай мне любовь», — запросил умирающий с голоду. «Я могу дать тебе любовь, — сказал господь. — Но разве только в одной любви счастье?» «Дай мне счастье!» — закричал умирающий. И умер с голоду.
Зашиба вздохнул:
— Вот так.
Яков взял Зашибу за плечо и заглянул в лицо.
— Правду говорят, что ты сын колдуна?
— Правду, — серьезно ответил Зашиба. — А про правду и кривду тоже есть такой сказ…
— Хватит, — остановил его Яков. — И вкусным отравиться можно. Если без меры потчуют.
— Не-е, — замотал головой Омеля. — От переедания еще никто не умирал.
А утром, когда собирались в путь, Омеля вдруг захохотал:
— Ему, недоумку, кроме хлеба, и не надо ничего. А он, вишь ты, счастья захотел.
Пока добирались до Устюга Великого, маленького городишки, из-за которого шли раздоры у новгородцев с суздальским князем, пала зима.
Переснарядились по-зимнему. И снова студеный ветер сушит щеки, а рубаха мокра от пота.
Падает медленный снег на черные огнища на местах ночевок, падает на широкий лыжный след, уходящий вверх по Вычегде. Кружится над истоптанным болотом, где волки рвут брошенную ушкуйниками голову сохатого и хватают залитый кровью снег; над землянкой охотника-пермяка, где причитают женщины, потому что чужие люди на лыжах унесли с собой весь запас рыбы и мяса.
Парма… Тайга… Есть ли ей конец на земле? Тишина и снег, расписанный следами зверюшек и птиц. Чудится, что где-то в ее глубине, за дремлющими елями откроется вдруг хрустальное царство мороза и лешего.
В верховьях Вычегды, близ волоков к Печоре и Каме, стоит почерневший домишко с изгородью. Видимо, это и есть Помоздинский погост. Яков еле сдержал себя, чтобы не побежать к нему во весь дух.
Избенка была пуста, с заиндевелыми внутри стенами и запахом гнили. Столешницу выгрызли крысы, в углах бахрома тенет и копоти.
А вокруг — ни следочка.
Ушли от избы подальше, стали рубить шалаши и нодьи. Нарочно весело и шумно, чтоб забыть запустенье и холод покинутого жилья.
Хлещет тишину топорный перестук. Мягко падают, прошуршав, снежные шапки с еловых лап и долго не оседает колючая белая пыль. Мелко вздрагивают ветки. И вдруг тяжелое дерево, словно выпрямившись от боли, замрет и рухнет со свистом, ломая мерзлые сучья.
Яков думает о Помозде и его сыновьях. Вернулся к избенке, постоял, сняв шапку, и поклонился ей, перекрестившись.
Земля — мачеха. Куда ни беги — везде мачеха.
Вернулся к ушкуйникам притихший, будто враз осунулся и потемнел лицом. Омеля спросил:
— Ведь мы того охотника косоглазого, что повстречали, ограбили. Все, как есть, унесли. Сгинут теперь его ребятишки. И он.
Омеля знал, что такое голод. Яков зло ответил:
— Ну, сгинут, тебе что за дело? Мы с тобой путь прокладываем господину Великому Новгороду. Понял?
Савка врубился топором в толстую пихту. Рубил с остервенением, ухая при ударах. За ворот набился снег и таял, стекая струйками по спине.
Кто-то подошел сзади. Савка оглянулся — Яков. Тихо, будто в шутку, сказал:
— Тяжелая у тебя рука, Савка. Не доведись под нее попасть ненароком.
У Савки прошел по спине озноб. Стиснул зубы и отвернулся. Неужели чувствует Яков недоброе?
Ночь шла белесая и теплая. Дым от костров стелился низко, как полоса тумана, и щипал глаза.
— Правду говорят, что в Югре люди рогаты и с песьими головами? И будто через дыру в скале торги ведут? — спросил Омеля.
— Дурной ты, — выругался Яков. — Лучше спи, авось морозец совсем спадет.
— Почто?
— Храпу твоего не выносит: тает, как пар.
У костра прыснули. Яков не смеялся. Омеля потер лоб, не зная, обижаться или нет. Сказал:
— Напоперек спать не буду.
Ратники повалились со смеху.
Омеля постоял, плюнул и отошел.
Ночью Савка подполз к нему. Омеля лежал на пихтовой хвое, забросив руки за голову.
Белесая тьма колыхалась меж елей, выползала из-под хвои. Лес стал гуще и плотней придвинулся к костру. В вершине березки запутались звездочки и беспомощно подмигивали. Из темноты доносились шорохи. Казалось, кто-то осторожно бродит вокруг.
«Фу-бу! Фу-бу!» — по-страшному ухнуло в тайге.
Омеля вздрогнул, прислушался.
— Леший.
— Он, — шепнул Савка. — Заведет нас Яков в самые его лапы.
— Не должен, — недоверчиво протянул Омеля. Помолчал и добавил: — Ну и жутко. Будто мы воры — в чужом терему хоронимся.
«Фу-бу! Фу-бу!» — снова повторилось в тайге.
— Шубу просит. Спросить у Якова да бросить ему шубу, лешему-то.
— Придумаешь, — вздохнул Савка. — И так косится на тебя Яков. Говорит: лопаешь за четверых, а в работе не тороват. Посмешки-то не зазря устраивает.
Савка увидел, как сузились глаза Омели, как заходили желваки на скулах.
— Не тороват, — ворчал Омеля, — да я, да я… — Он сжал кулаки и потряс ими.
«Фу-бу! Фу-бу!» — совсем близко проухал голос.
Омеля поднялся — большой и грозный, постоял и взялся за топор.
— Я им покажу — не тороват. Самого лешего за шиворот приволоку, вдруг выпалил он. — Все увидят! Эй, леший! На тебе шубу!
Тяжелыми шагами двинулся Омеля в белесую тьму.
С рассветом веселилось все войско. Виданное ли дело, с топором на филина идти?
— Он тебя в зад не клюнул? — приставал Яков к Омеле. Тот молчал и зло ворошил палкой в костре.
«Заело», — подумал Савка и ухмыльнулся.
Потеряли ратники счет дням и неделям. Истомились, устали. Распухли помороженные лица. Кончились сухари. Яков подбадривал: