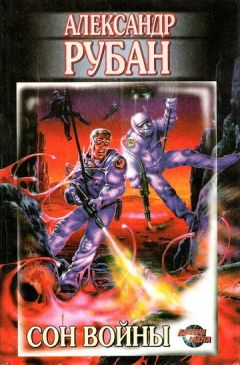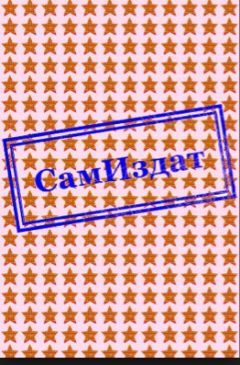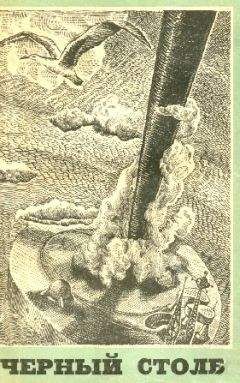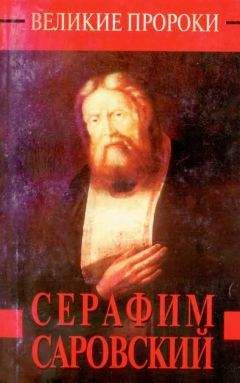А их уж — везде густо было, хотя и не поровну. Облепила татаровня Березань-крепостцу, как смолистую щепочку, в муравейник ткнутую. Занималась та щепочка ясным пламенем, дымным вогнищем. Голосили бабы с девками над телами малых детушек, басурманами заколотых, — да и сами тут же падали… Вот и пожили мы в землях новыих! И взрастили нивы тучный! Посадили княжить — Ярича!..
Яко теперь лишь, пятясь вослед Серафиму, в един миг прозрел я и слышать стал. Слышать — не токмо его слова да хрипы врагов, что поблизости. Видеть — не токмо вражью сталь, моей плоти грозящую. От того, что услышал — захолонуло сердце, и дрогнула шуйца, секиру сжимавшая. От того, что увидел — мутная пелена застлала очи, и по щекам поползло горячее, ярое — горячее, чем боль в боку, где царапалось жало каленой татарской стрелы.
— Не гляди! — рычал Серафим, высекая шаг за шагом тропу скрозь татар к воротам (я же едва поспевал пятиться, впустую и слепо маша секирой). — Не гляди, Фома: скиснешь… Рубись! Борони спину!
От тех ли Серафимовых слов, оттого ли, что секира, хотя и сослепу, а хряснула куда след («Осьмая», — счел я про себя; не терял счета), а только истаяла пелена, высохли щеки, затвердела рука, сердце опять стало биться ровно и быстро. И не слепо, не яро, а холодно, дерзко и с умыслом рубил я поганые головы, незнамо зачем продолжая им счет, который давно уже перевалил за дюжину. Двадесят первого я зарубил на скаку — и пригнулся к шее быстроногой татарской лошадки, и вцепился ей в гриву, и шептал: «уноси, уноси — от каленой стрелы, от поганой погони, от земли, где посеешь — и вытопчут кони… где под крышей уснешь, а проснешься на гари… где хороший татарин — это мертвый татарин! Хороший татарин — мертвый татарин. Хороший татарин — …». А впереди, чуть левее, маячила широкая спина Серафима верхом на такой же быстроногой лошадке, и уже не свистели стрелы, отстала погоня, мы ехали шагом, уклоняясь от низких ветвей, а я все твердил неизвестно откуда взявшиеся слова, давным-давно потерявшие всякий смысл, но мне казалось, что смысл есть, и я твердил их с убежденностью гневного, только что пережившего страшные мгновения человека, и тогда Серафим развернулся и наотмашь ударил меня по лицу тыльной стороной ладони.
Я упал, ударившись головой о двери тамбура, и очнулся — вместо того, чтобы потерять сознание.
— Ну, ты, блин, и дурной! — сказал Серафим, неподвижно возвышаясь над копошащимся мной. — Знал бы — не связывался.
Я потрогал щеку — она была липкой. Посмотрел на пальцы. Сима в кровь разбил мне губу. Из носа тоже текло горячее…
Я стал подниматься, цепляясь за стенки тамбура и пачкая их кровью. Сима не помогал мне и не мешал. Ждал.
Наконец поднявшись, я стал машинально отряхивать пиджак — и согнулся от резкой боли в правом боку, под ребрами, там, где торчала стрела.
— Вилкой саданули, — сочувственно объяснил Сима, придержав меня за плечо. — Такой же дурной, как и ты… Я еще подумал: а зачем ему вилка? Ну и не успел. Болит?
— Каша какая-то… — пробормотал я, пряча глаза, и стал осторожно ощупывать бок. Если там и в самом деле была вилка, то почему-то сломанная. Это ведь с какой силой надо садануть (и, разумеется, не о мой бок, а о что-нибудь потверже), чтобы сломать вилку!
— Каши там не было, — возразил Сима. — Лапша была. Только ты ее жрать не стал. Ты, Петрович, эту лапшу на Санину голову хряпнул… И с чего ты взял, что он татарин? Хохол, как и я, только евреистый…
Сима еще что-то говорил — что-то про дурдом на колесах, про чуть не уплывший спирт, про жидов, которые, оказывается, будь здоров как махаться могут, про Танюхину сумку… До меня все это очень смутно доходило, потому что я наконец нащупал то, что торчало у меня в боку, и понял, что оно никак не могло быть вилкой — не бывает таких вилок. И еще я вспомнил, как, обрезав секирой стремя (в нем застряла нога разваленного от плеча до пояса татарина) и ощутив, что правая рука мне наконец-то повинуется, я, прежде чем самому забраться в седло, обломил мешавшую мне стрелу в двух пальцах от наконечника и выбросил вон обломок.
В этой последней картине битвы была какая-то неправильность — крохотное, как соринка в глазу, несоответствие чего-то чему-то. Но в том, что все происходившее — происходило, а не пригрезилось, я был абсолютно уверен. В этом меня убеждали и все еще болевшее плечо, и сбитый на жестком татарском седле копчик, и подкатившая вдруг тошнота, когда я вспомнил человечьи потроха, волочившиеся по мокрой от крови земле.
Но самой что ни на есть неоспоримой реальностью был обломок стрелы — я уже без удивления ощупывал его под пиджаком и неуверенно, то и дело морщась от боли, пошевелил, а потом привычно стиснул зубы и дернул.
Это была стрела, и древко ее было обломано в двух пальцах от наконечника… Это была наша стрела, кованая в той же кузне, теми же руками, что и мои наплечники. Такими стрелами (целыми связками по сто штук в каждой) Ладобор Ярич одаривал дружественных туземных князей — дабы не топтали нивы. Но они их все равно топтали.
— А ну дай сюда! — сказал Сима. — Зачем выдернул?
Я с недоумением воззрился на него — снизу вверх, потому что все еще стоял, перекосившись, — зажал наконечник в кулаке и отвел руку за спину.
— Дура! — сказал Сима. — Бок зажми — капает!
Тем же кулаком, не выпуская наконечника, я прижал полу пиджака к ране. Боль, на мгновение полыхнув, постепенно утишилась, и я смог выпрямиться. Рубашка была тяжелой и липкой, трусы сбоку тоже набрякли, горячее ползло вниз по бедру. Мне было плохо, очень плохо.
— Идти можешь? — спросил Сима.
Я кивнул.
— Пошли. Полвагона осталось.
Он распахнул дверь и двинул меня перед собой в коридор.
— Да отпустите же… — проговорил я. — Господи…
Люди смотрели из-за чуть приоткрытых дверей, осторожно высунув головы.
Дойдя до нашего купе, я попытался откатить дверь. Она была заперта. Сима, оттеснив меня в сторону, подергал ручку.
За дверью послышалось некое шевеление, шелест и неразборчивые голоса. Кажется, Танечкин голос произнес что-то вроде «давай» или «вставай», а потом — «не надо»…
— Танюха! — снова заорал Сима, перехватил сумку с бутылками спирта в левую руку и дважды грохнул по двери кулаком. — Я же тебя просил: молодого к телу не подпус…
Договорить он не успел, потому что в это самое мгновение дверь с треском откатилась, и в проеме воздвигся обнаженный Олег, завершая классическое движение своего правого кулака на Симиной челюсти.
Кажется, это называется «апперкот». В кино после такого удара «плохие парни» отлетают метров на восемь, ломая на лету мебель и беспорядочно размахивая руками… Серафиму отлетать было некуда, а в левой руке у него была тяжелая сумка с четырнадцатью литровыми бутылками спирта. Девять из них, как потом выяснилось, уцелели.