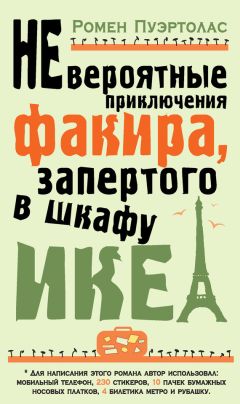Дарин и Стю остановились у окна, через которое было хорошо видно почти всю загородку. Женщины к этому времени успели уже исчезнуть.
— Сегодня для них было слишком спокойно, — сказал Стю. — Адам всё время совершал обход, а прежде чем вернуться к остальным, почти час сидел на поваленном дереве.
Искусственное озеро всё больше увеличивалось; вода в нём была грязной и выглядела непривлекательно. В десять минут двенадцатого по всей загородке было уже известно, что с водой произошло что-то плохое. Старшие шимпанзе пытались включить фонтан; сам Адам делал это несколько раз, стуча по нему палкой и ковыряясь в нём, но безрезультатно. Наконец он сел, глядя на бездействующее устройство. Один из молодых шимпанзе жалобно застонал. Он ещё не хотел пить, просто был удивлён, а может, и встревожен. Адам недобро посмотрел на него, и шимпанзе тут же спрятался за Гортензию, которая оскалилась на Адама. Тот погрозил ей, а самка принялась искать у своего отпрыска. Когда тот снова заныл, наподдавала ему в бок. Молодой шимпанзе посмотрел на неё, на Адама, после чего сунул палец в рот и отошел в сторону. Адам по-прежнему смотрел на фонтан. Прошёл час. Наконец Адам поднялся и направился к высохшему ручью. Тут и там виднелись лужи мутной воды. Остальные шимпанзе шли следом. Дойдя до места, где ручей вытекал из-под пластиковой стены ограждения, Адам снова сел на землю. Одно из молодых животных подошло к бассейну с грязной водой, коснулось поверхности, отдернуло руку; потом снова коснулось и наконец напилось. Ещё несколько обезьян сделали то же самое. Адам продолжал сидеть неподвижно. В двенадцать сорок он ожил и, махая остальным самцам, подошёл к дереву. С громким визгом и массой лишних движений они рванули ствол, потом ещё раз и, наконец, сдвинули его в сторону. Вода хлынула в проход, залив обезьян. Две удрали, но две другие остались с Адамом, и первые вскоре вернулись.
Они всё ещё работали, когда Дарин уходил, чтобы не опоздать на встречу с миссис Дрисколл и её сыном. Миссис Дрисколл приехала в десять минут второго. Келли оставила шприц с новым препаратом в небольшом холодильнике, стоявшем в углу кабинета. Дарин сделал Сонни укол, взял у него кровь и начал обследование. Временами Сонни даже сотрудничал с ним; это заключалось в том, что он брал рукой один из предметов, лежавших на столе, и бросал перед собой. Сегодня ему удалось очистить стол в течение десяти минут. Дарин сунул в руку леденец; Сонни тут же его выбросил. Дарин терпеливо продолжал давать ему всё новые леденцы. Восьмой оставался в руке достаточно долго, чтобы Дарин довёл ладонь до губ мальчика. Когда леденец исчез, Сонни открыл рот, ожидая следующего. Руки его неподвижно лежали на столе. Похоже, он вообще не понимал роли, которую они сыграли, перенося ко рту лакомый кусочек. Дарин попытался ещё раз проделать то же самое, но на сей раз Сонни не желал ничего держать в руке.
Когда прошёл час и Сонни начал выказывать явные признаки усталости, миссис Дрисколл сжала в своих ладонях руку Дарина. Глаза её были полны слёз.
— Вам удалось научить его есть самостоятельно. Хотя бы что-то, — сказала она срывающимся голосом. — Да благословит вас Бог, доктор Дарин! Да благословит вас Бог!
Она поцеловала его руку и торопливо отвернулась, чтобы он не заметил бегущих по щекам слёз.
Келли явилась сразу после их ухода.
— Слышали новость? Адам строит собственную дамбу, — сказала она, забирая кровь на исследование.
Дарин молча смотрел на неё. Неужели перелом? Он торопливо бросился наружу. Ему показалось, что у окон собрались все работники института. Он заметил Стю и через мгновение был уже рядом с ним. Ручеек неторопливо тек по своему старому руслу, однако нигде не был глубже полуметра. Отчётливо виднелось его дно местами каменистое, местами выстланное песком. Адам вместе с остальными собирал камни в единственном, идеально подходящем для этого месте, недалеко от шалаша. Возводимая ими дамба имела полметра толщины и находилась примерно в полутора метрах от стены и в пяти от окна, у которого стояли Стю и Дарин. Когда строительство было закончено, Адам оглянулся, и Дарину показалось, что глаза шимпанзе на мгновение взглянули прямо на него. Позднее он узнал, что почти все испытали то же самое, когда эти чёрные глаза смотрели в другие, тоже наделенные разумом.
— …ближайшей бури. В случае наводнения…
— …посеять зерно вместо…
— …мозг. Извилины те же, что у человека.
Дарин с ещё звучащими у него в ушах обрывками торопливо набрасываемых планов вернулся в кабинет. На столе лежала записка: Якобсен поручал ему заняться посетителями из Общества охраны животных. В понедельник, в десять утра, он должен встретиться с представителями университета, кем-то из Общества и полномочными представителями всех заинтересованных сторон. Он начал писать ежедневный рапорт о Сонни Дрисколле. Пожалуй, Сонни слишком долго был вежлив и послушен. Не зажжет ли случайно последний укол искру решимости, необходимую, чтобы вновь начать буянить? Дарин предупредил его санитара о такой возможности, но Джонни это особо не взволновало. Оставалось надеяться, что Сонни не убьёт своего санитара, чтобы потом броситься на отца с матерью. Мать он, вероятно, изнасиловал бы, не будь подобная целенаправленность действий совершенно чужда его затуманенному мозгу. А как быть с теми людьми, что добровольно согласились на инъекции вытяжек из крови Сонни? О них он не хотел даже думать и именно поэтому не мог освободиться от этих мыслей. Трое приговорённых, надеявшихся на смягчение наказания взамен за помощь науке. Он вдруг рассмеялся. Нет, они уже ничего не могли планировать. Только эти трое. Они просто ждали того, что должно случиться, не думая о том, когда это произойдёт или как это их коснётся. Вот именно: не думая. И точка.
— Но ведь вы всегда можете объяснить, что действительно действовали из лучших побуждений, что делали это для Науки, правда, доктор Дарин? — с иронией спросила Рей.
Он взглянул на неё.
— Иди к черту.
Было уже поздно, когда он выключил свет. В коридоре, ведущем к главному входу, он встретил Келли.
— Тяжелый день, доктор Дарин?
Он кивнул. Её ладонь на долю секунды коснулась его руки.
— Спокойной ночи, — сказала она, поворачивая к себе.
Он некоторое время смотрел на закрытую дверь, потом наконец вышел наружу и направился к машине. Леа, конечно, бесится, что он не позвонил. Вероятно, не скажет ни слова до тех пор, пока не станут ложиться спать, и только тогда зальёт потоком слёз и обвинений. Он уже сейчас мог предсказать, когда эти слёзы и обвинения достигнут цели: когда тело Келли будет ещё живым воспоминанием, когда её слова ещё будут звучать в его ушах. И тогда он начнёт лгать, не от желания, чтобы Леа ничего не знала, а потому, что именно этого она будет от него ждать. Она не знала бы, что делать с правдой. Правда окружила бы её до такой степени, что она могла бы попытаться освободиться неудачным самоубийством — в сущности, криком отчаяния; — желая обратить на себя внимание, и этот жест связал бы его с нею слезливыми, неразрывными узами. О нет, он, конечно, солжёт, она будет отлично знать об этом, и оба будут жить, как прежде. Он запустил двигатель, и машина принялась поглощать ждущие его двадцать километров. Интересно, где может жить Келли, что стало бы со Стю, узнай он об этом? Как повлияет на его работу, если однажды Келли станет невыносимой? Он пожал плечами. Зашитые Куколки никогда не становятся невыносимыми. Они не запрограммированы на такое.