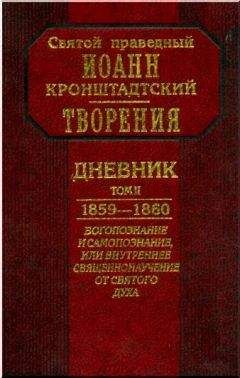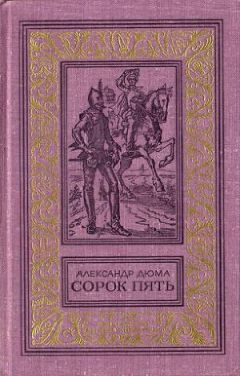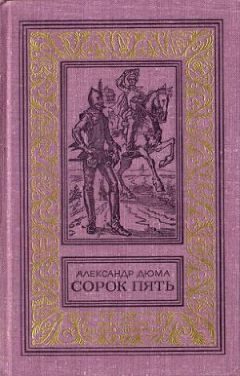Чувство, захватившее меня, повторялось у каждого слушателя, все мы как ошалелые, как бы внезапно ослепнув, уже не видели ни друг друга, ни Генриха, и всем в себе отдавались магии тоскующих звуков.
Вдруг я очнулся. Не знаю, как удалось прорваться сквозь коварную сеть полонящей мелодии, но я пришел в себя и увидел, что Генрих почти бездыханен и кривые на самописцах, фиксирующих жизненные параметры, все до единой катятся вниз.
– Доктор, он умирает! – заорал я и кинулся сдирать с Генриха зажимы.
Медик, охнув, выключил аппарат. Его ассистенты суетились вокруг Генриха. Кто облучал его из живительных радиационных пистолетов, кто делал инъекции, кто прикладывал к щекам и ко лбу примочки, кто из индукционных аппаратов пронизывал нервы электрическими разрядами. Прошло минут пять, прежде чем Генрих открыл глаза. Мы подняли его и поставили, он не удержался на ногах. Мы опять положили его на диван, опять энергично обстреливали, примачивали, вводили растворы, терзали электрическими потенциалами.
– Что с тобой? Скажи, что с тобой? – спрашивал я. Он наконец откликнулся – бессвязно, на полуслове останавливался, повторялся. Даже после страшной аварии на Марсе, даже после отравления диковинным мхом, когда мы с ним открыли общественное радиационное кси-поле, он не был так ослаблен. Он объяснил, что, ожидая музыки, вспомнил Альбину и захотел опять разобраться в тайне ее гибели, но, как и раньше, ничего достоверного не установил, и его охватило отчаяние, что она умерла такой молодой, а он не сумел ей помочь и даже не понимает причин ее смерти.
Рассказ Генриха прервало громкое рыдание Михаила. Композитор скрючился на диване и заливался слезами. Я подумал было, что и ему плохо от порожденных Генрихом мелодий, но Михаил с раздражением отмахнулся от меня.
– Вы не понимаете! Вы не способны понять! – лепетал он. – Самый страшный тупица – я! В мире еще не существовало человека бесталаннее меня! Был только один гений, только один – Альберт, теперь я знаю это!
– Обстреляйте его успокаивающими лучами! – приказал я медику. – А если ваши средства не помогут, я надаю этому болвану оплеух! – Нервы у меня разошлись, я и в самом деле мог полезть в драку.
Михаил вскочил. Глаза его исступленно горели. Даже не верилось, что это те сонные зенки, какими он обычно озирал мир.
– Альберт был величайшим гением, но и он ошибался! Он ошибался, я не ошибусь! Я сотворю то, что ему не удалось!
И, продолжая что-то кричать на бегу, он ринулся вон.
Только через несколько дней мы с точностью установили, что вырвали Генриха из тенет смерти буквально в последний момент. Еще две-три минуты такой убийственной музыки – и он был бы испепелен. Это не словесная фиоритура, а беспощадный факт: болезнь, поразившая Генриха, больше всего напоминала внутренний ожог. И лечили его, как мне сотню раз объясняли медики, и знаменитые, и обыкновенные – они стадами паслись у постели Генриха, – от ординарного ожога внутренних тканей. Я сказал «ординарный ожог» и печально усмехаюсь: вероятно, во всей истории медицины не было болезни удивительней той, что погубила Альберта и едва не прикончила Генриха. Я приведу лишь один факт, чтобы вам стала понятна серьезность события: за час музыкального сеанса Генрих похудел на семь килограммов, так велик был отток энергии из тела.
В эти суматошливые дни борьбы Генриха с хворью я позабыл о Михаиле, он тоже не давал знать о себе, даже не поинтересовался здоровьем Генриха. Он словно бы не ушел, а бежал – и боялся снова с нами соприкоснуться.
Он появился недели через две. Генрих уже вставал на короткое время, он хотел побольше ходить, но медики сомневались, полезно ли это ему, и я не давал. Я, как вы понимаете, и работал и ночевал в комнате Генриха и если выходил из нее, то ненадолго.
– Жив? – приветствовал я Михаила. – А мы думали, тебя взяла нелегкая.
Он понял «нелегкая» в смысле «нелегкая музыка» и торжествующе засиял:
– Мелодия губительная, но я превратил ее в свою противоположность. Расскажите, как вы объясняете изобретение Альберта?
Я посмотрел на Генриха. Он прошептал:
– Говори ты.
Мы с Генрихом много размышляли о происшествии, я высказал не свое, а общее мнение. Я начал с того, что человек и вправду познает окружающее и себя не одним разумом, но и эмоциями, и среди них немаловажно музыкальное восприятие. Вещи мира не только видятся, не только осязаются, не только пахнут, но и звучат. Каждому предмету мира, каждой комбинации их соответствует в психике человека особое музыкальное звучание. Древние греки говорили о «гармонии сфер» – и они не были такими уж дураками. Один поэт некогда писал:
И все звучит. На камень иль траву Ступаешь, как на клавиши рояля.
И прислонясь к стволу, росу роняя На звезды, облепивши листву, Звучишь и сам.
Обратное тоже верно – каждому психическому состоянию человека соответствует мелодия, выражающая это состояние. Разумеется, все эти звучания – симфонии внешнего мира, музыкальные ритмы психики – обычно так слабы, что составляют неопределенный шумовой фон восприятия и размышления.
Альберту удалось – и в этом сила его изобретения – гигантски усилить внутреннюю музыку человеческого познания и страстей. Но изобретение таит в себе и угрозу. Природа недаром скрыла музыку чувств и мыслей в микрозвучании, растворила ее в шумовом фоне. Альберт распахнул зловещий ящик Пандоры, скрывавший страсти души. И в своем натуральном виде эмоции почти всесильны, под их действием люди гневаются, рыдают, тоскуют, впадают в неистовство, бесятся, сходят с ума. Тысячекратно же музыкально увеличенные, они убивают. Любое ощущение, крохотное и неприметное, усилитель Альберта делает великим чувством. Человек не способен вынести ни великое горе, ни великую радость, человек гармоничен, такова его природа,
– все чрезмерное губительно для человека. И сам Альберт, испытывая свой аппарат, был сожжен гигантским наслаждением и, уже умирая, не понимал, что гибнет, а не наслаждается. И Генриха едва не испепелила вечно тлеющая в нем печаль об Альбине, когда печаль из обычного чувства выросла в обжигающе громадную. И чтобы больше не повторялись такие трагедии, мы теперь постараемся наглухо закрыть грозное открытие Альберта Симагина…
– Нет! – закричал Михаил. – Вы этого не сделаете! Я не позволю!
– Не позволишь? Между прочим, мы пригласили тебя в качестве музыкального эксперта, а не на роль верховного судии. Улавливаешь разницу?
– Выслушайте меня! – попросил он. – Только об одном прошу: выслушайте меня спокойно. Не надо так волноваться.
– Волнуешься ты, а не мы. Говори. Обещаю слушать без усиления эмоций.