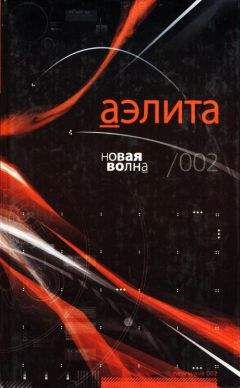Хорошо, что мебели мало, не наткнешься. И где-то на краешке сознания плавало изумление — покой огромный, на всю круглую башню, а потолок беленый и низкий. Впрочем, вскоре это тоже перестало ее занимать. В покое было окно. Возможно, не единственное, но это выделялось для Алисы — под окном стоял широкий стол с пачкой пергаменов, чернильницей и очиненными перьями. И кто-то — или что-то — очень настойчиво подталкивало ее писать. Наклонившись, Алиса вывела фразу: «По покою металась, все больше уставая, большая кошка», — но фраза поразила ее банальностью и была вычеркнута. Пергамен полетел в угол. Возможно, он очень драгоценный и за него можно купить две тягловые лошади и козу, но Алису никто не ограничивал. Швыряйся хоть до посинения. Все равно, глянув через минуту, найдешь на столе новую ровную стопку, перья очинены, а на концы насажены металлические оголовья. «Потрясатель копья, потрясатель пера…» — пробормотала Алиса, глотая слезы. Кошка рвалась наружу из глубины вод.
Минуло какое-то время. Она поняла, что сидит на высоком готическом стуле, между спиной и жесткой спинкой аккуратно вдвинута подушечка, а у левого локтя дымится чашка с горячим какао.
«Зеленый попугай сидел в клетке, — нацарапала Алиса. — Попугай большой, а клетка средняя, и непоместившийся хвост свисает наружу…» Этот попугай материализовался в голове, среди нарисованных прутьев — живой попугай. Неясно было, пугаться или смеяться, она резко перечеркнула написанное, и пергамен — разве такое возможно? — разорвался, повис клочьями плоти. Потом настала ночь. Во всяком случае, свечка светила прямо в глаза, шарик желтой волшебной пыльцы… а голова лежала в высоких подушках или на чьих-то коленях… рядом сидел с тетрадкой Феличе… да, она вспомнила! Ее тетрадка с корабликом. Она же осталась… там… у человека, про которого ей доказали, какая он сволочь. У нее же нет поводов не верить. «Сомнения порождают ересь, а ересь должна быть…»
— Записывай! Записывай!
Алиса никак не могла понять, кто это говорит. Не могла повернуть голову, и свеча горела — в лицо; и подушки… все тот же круглый покой. Маяк. При чем тут маяк?
— Говори. Не останавливайся. Говори.
Затухали молнии над Твиртове, захлебываясь дождем.
«Все души, что сгорели, вернутся из пепла… Все сказки… Несправедливо».
— Я… так… не хочу.
Распухший язык ворочался во рту. Алиса вдруг подумала, что разучилась говорить, и в пруду навсегда останется непослушная кошка, и Хальк…
— Хальк.
— Говори!
— По мосту…
— Дальше!
— Там мост… там мост из дождинок… из горьких детских слезинок…
Из радуг… из сонных звезд… из чаячьих спинок… мост…
Губы не слушались. Но слова… летели сквозь открытое окно… как теплые чаячьи перья. И очень хотелось, и немоглось заплакать.
— Пиши! Ну пиши же!
Майронис? Она сходит с ума.
— Прекратите это.
— Где? Где мой кораблик?
Алиса сжала в ладони леденцовую драгоценность и перевела дыхание.
— Дальше.
— Да. Сейчас.
В комнате порозовело. Словно разожгли камин. Или рассвет. Или — где-то далеко-далеко — пожар.
— …Прикоснуться не к небу, не к снам — щекой к твоим волосам.
Голос неожиданно отвердел, и Алиса сама удивилась этому. Бешеный бег коней, черен меча в ладони.
— Не знаю: к горю ли, к радости
Распахнулись Ворота Радуги!
Она еще успела увидеть, как Феличе шевелит губами, повторяя записанные слова.
Как это происходит? Просто приближается квадратное окошко. Как аквариум, где за толстой стенкой плавают чьи-то чужие мысли, поступки и дела. А потом приходит день, приходит срок, и истончившаяся преграда рвется или просто тает. И этот чужой мир — он уже в тебе, он — ты, и слова, проходя сквозь тебя, становятся плотью. Что в этом виновато — фаза луны, чужой незнакомый запах… это лишь толчок, возможность; но и врата, и привратник, и фильтр на этих воротах — ты сама. Ты решаешь, какие порождения выпустить в мир и облечь словами… И тусклая елочная игрушка вдруг взрывается радугой! И идут травяные дожди, и кто-то задыхается и умирает от счастья — от того, что тобою написано. Или от боли — а выбираешь ты. И сам взрываешься с придуманным миром, и вырваны с корнем нити марионетки… Но буря затихает, и моря возвращаются в свои берега, и твои врата к тебе закрыты, а костер, абсолютный текст, ждет. И ты бросаешь в него, как ветки, все, что можешь найти, вырвать, вынуть, извлечь из себя и из других — странный поворот дороги, и слезинку, и смешную детскую песенку… все, все падает в костер, и ты отдаешь, отдаешь иногда до цинизма, потому что и чье-то (может, и твое) последнее дыхание — тоже туда. Сломанная рука мертвого, стон отвергнутой любви… то, что не придумаешь ни за что и никогда, что должно быть истинно — иначе никуда не годится сотворенное тобою слово. А потом ждать, каждый раз боясь, что ничего не случится, что врат не будет.
Радуги сияли. Путались с пронизанным солнцем дождем. И небо было ослепительно синим и глубоким, и в нем плыли величественные, как на картинах Чюрлениса, воссиянные солнцем облака.
Мы, мы все были волшебными воротами, пусть калиточками, пусть щелочками из мира в мир, и когда кто-то из нас погибал — это как разбитый елочный шарик, мертвое чудо. Но мы были вместе, и радуги вскипали в поднебесье, и поили серый мир. Он глотал сотворенный нами разноцветный дождь, глотал беспощадно, но в этот раз, хвала Корабельщику, сумел напиться. Пей нашу кровь, пей нашу радугу — не жалко. Мы оторвем и раздадим кусочки души, все равно ее станет больше. Времена перемешались, и стоя на осколках, я дарю всем охапки сирени. Взахлеб. Радуги — полными пригоршнями. В небе — Врата!..
«Ваша страшная сказка становится нашей страшной былью, и вы думаете, я буду просто стоять и смотреть?..»
Хальк поймал себя на том, что опять беседует с придуманным героем. И у Феличе есть повод удивляться и спросить: разве он такой злодей? Он же никогда не пойдет на то, чтобы использовать женщину втемную. Даже для блага нации. Стоп, не было тогда такого понятия — «нация». И вообще что-то не так. А, поймал это Хальк, врет Хранитель, не могли Алису схватить в Эйле. В Эрлирангорде — запросто. Но между столицей и Эйле — сутки поездом… Паровоз в Средневековье, смешно… Тяжелая капля упала с крыши в выбитую под окном ямку. Сегодня проходят испытание будущие рыцари. С утра заявился совершенно злобный Гай и осведомился, неужли же, чтобы стать рыцарем, обязательно лезть в мокрую крапиву? А Ирочка уперлась в этих испытаниях и вечером станет изображать королеву-мать, лупить детей при свечках деревянным клинком по плечу и опоясывать ремешком с этим же мечом, привешенным к оному. Верх идиотизма. Хальк обещался написать жалованные грамоты… Пиши-пиши, художник, по линиям руки… что-то, не помню что, есть реальность, данная нам в ощущение. А если в ощущение дана нереальность, что тогда? Или грани сместились — и как повернешь… Что это он тут нарисовал? Хальк, отнеся на вытянутые руки, разглядывал вырванный из блокнота, измятый и немного обгорелый по краям листок: оградка, мраморная роза на камне. «До свидания, глупышка Икар. Вон над кладбищем кресты, словно крылья. Нас на нем похоронили с утра. Нас хотели завести, но забыли». Оптимистично и весьма жизнеутверждающе. Но почерк… загнутые кверху спятившие строчки. Через месяц она сама не могла прочесть, что написала. Но не было же у нее этих стихов!.. Нереальность в ощущение. Хальк высунулся под дождь. Особенно нетерпеливые оруженосцы, заране потирая голые локти и коленки, ломились к крапиве. Охота пуще неволи. Сказка… да. Одно дело, когда твоя сказка пусть за полустертой, но гранью. За окошком, за прогибающейся преградой. Пусть в снах. Пусть в неоживающих строчках. Пусть в почти не страшных картинках перед глазами. Но если она ломится в мир с упорством сбрендившего поезда? Как в старом фильме: ворвавшийся в квартиру паровоз. Рваная дыра в стене и тупое черное рыло среди сентиментальных кошечек. И что же мне делать со всем этим, Господи?! Впрочем, ты все равно не ответишь.