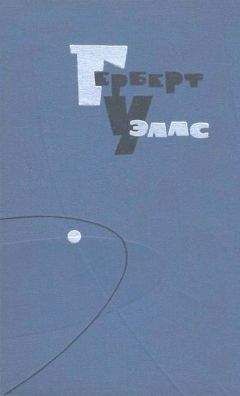Обхитрил-таки их Иван — всех кобылиц и жеребца стреножил. Вдобавок успел до того, как Баба-Яга соизволила пробудиться. Растворила она двери конюшни да так и застыла, рот разиня: табун не бежит, а прыгает, заячьему племени подобно.
— Кобылы твои вечор норов показали, — объяснил Иван, — вот я и решил поумерить его маленько.
— Ишь ты! — покачала головой Баба-Яга, вручая ему тряпицу с хлебом и творогом. — Умен больно, Иван-царевич. Гляди, в народе говорят: длиннее ум, короче век.
— От судьбы все одно не уйдешь. Бывает, и ум короток, и век недолог,заметил Иван, вспомнив, сколько раз собственная глупость подводила его к роковой черте. — Ты уж поверь на слово.
Баба-Яга показала ему в ухмылке страшные свои зубы, но промолчала и воротилась в избушку на курьих ножках, чтобы прохрапеть на печи до обеда иль до ужина — как придется.
Проводил ее взглядом Иван-царевич и погнал кобылиц по лесной тропе к пастбищу. На сей раз решил он не доверяться даже тишайшей кобылке и остался пешим. Да и не велика морока поспевать за таким неуклюжим табуном, медленно ковыляющим по лесу и то ржаньем, то храпом выражающим свое недовольство. Спасибо, что хоть не человечьим голосом: Ивану вовсе не улыбалось слушать, что о нем думают кобылы. Лишь изредка то у одной, то у другой сорвется ядреное русское словцо, и недаром: больно много поганого видали и едали они на своем веку, чтоб изысканной речи обучиться.
Вдруг одна кобыла как припустит галопом по тропинке — только он ее и видал.
У Ивана кровь оледенела. Должно, не доглядел за кобылою — дал ей уйти без пут, не то б она в землю мордою ковырнулась при первой же попытке к бегству. Обогнал табун, забежал вперед посмотреть, в чем загадка. Да о разгадку сам же и споткнулся: путы его с узлами величиной в кулак посреди тропки валялись, изжеванные до мочала. Слишком поздно вспомнил Иван про зубы этих лошадушек.
Тут зубы-то возле самого лица его и клацнули — это жеребец предупреждал его, чтоб не становился более на пути. Остальные кобылицы у него на глазах преспокойно дожевывали свои веревки. Те, у кого передние ноги были стреножены, освободились сами и принялись помогать кобылам со связанными задними ногами. Одним словом, все утренние его труды пропали втуне — и получасу не прошло, как весь табун на волю вырвался. Теперь уж не стали они насмешничать — сразу припустили галопом, забросав своего табунщика летящими из-под копыт комьями земли.
Когда исчез табун, воцарилась глубокая тишина, да такая, что слышал царевич, как сердце в груди стучит. Он пытался унять стук и прислушаться, не спешит ли кто ему на помощь. Но нет: ни топота копыт, ни пения птиц, ни жужжанья насекомых. Так и стоял Иван на лесной тропинке, гнетущая тишина к земле его придавила. В другое время душа бы радовалась тишине, да благодати, да солнцу, что льет лучи свои сквозь ветви дерев, золотя мириады пылинок. Случалось ему иной раз пережить в хорловском соборе мгновенья тихих раздумий и погружения в себя. Но теперь его раздумья тихими не назовешь. Вопросы оглушили его, как гром небесный, а главный из них прост донельзя в своей жестокости: жить... или не жить?
Как ни напрягал он слух, даже отдаленно не достигали ушей его ни гомон птичий, ни вой волчий, ни назойливое жужжанье пчел среди цветов. Обретенная было уверенность начала понемногу отступать, и на смену ей вползал в душу липкий страх. Ежели ошибся он и не всегда на свете за добро добром воздается, значит, в этой гробовой тишине и впрямь до могилы недалече.
Правда, в его случае и на могилу уповать не приходится — только на шест частокола.
Предаваясь печали, сидел Иван на пне у края луга и смотрел на розовеющее закатное небо так пристально, как глядят на острие разящего меча. Пробовал соснуть на солнышке, но вчерашней усталости как не бывало, и в томительной надежде на спасенье сон к нему не шел.
Когда солнце готово было скатиться за верхушки дерев и протянуть к нему длинные пальцы вечерних теней, очнулся он от тревожной дремы в полном одиночестве. Ни птиц, ни зверей, ни пчел и уж конечно ни кобылиц, коих пора вести в конюшню на поляне. Тогда-то и решил он дорого продать Бабе-Яге свою голову. Облюбовал себе местечко поближе к деревьям, так чтобы нельзя было захватить его с тылу, достал из поясного мешка оселок и принялся точить саблю в ожидании того, что Бог ему пошлет.
Солнце неумолимо продолжало свой путь к горизонту, а он все натачивал оружие. Сабля и без того была остра, а теперь серебром сверкала в закатных лучах — бриться можно. Да чего там бриться! Северный ветер можно середь зимы разогнать, снега, им нанесенные, растопить. Но разрубит ли она Бабу-Ягу — вот вопрос. Впрочем, судя по небесному багрянцу, ответ себя ждать не заставит.
И вдруг зашелестели крылышки по вечерней прохладе, и маленькие коготки вцепились в Иваново запястье, царапая кожу... Она, коричневая птичка с желтым хохолком, похожим на царский венец! Вертит головкой туда-сюда, глядя на него глазками-бусинками.
— Иван-царевич! — Птичка слегка поклонилась ему. — Я ль не обещалась тебе помочь, когда менее всего ожидать будешь?
Иван так шумно выдохнул, что едва не сдул птичку.
— Верно, благороднейшая из пернатых. Я теперь одного жду: когда Баба-Яга за моей башкой пожалует. Раз уж ты собралась мне помочь, не могла ль это пораньше сделать?
— Нет, не могла. Ежели б мое войско днем загнало кобылиц на конюшню, Баба-Яга опять бы свой табун пастись послала, а тебя — его стеречь. Я обязана тебе лишь одною услугою. Да не забудь: еще день впереди. Али хочешь назавтра без помощи остаться и забор Бабы-Яги головой своей украсить?
— Ox! — вымолвил Иван, сообразив, что здесь все рассчитано, как на поле битвы, что помощь к нему приходит не раньше и не позже, чем потребно.Благодарствую, прости меня, дурака!
С плеч будто ноша огромная свалилась. Теперь уж он был уверен, что завтра защитит его могучая лапа серой волчицы.
Птичка глядела на него неотрывно, словно читая мысли и не одобряя их. Вот так же в далеком прошлом глядели на него иной раз батюшка и главный управитель Стрельцин. Потом птица тряхнула крылышками, взлетела и повисла в воздухе, точно маленький коршун.
— На помощь надейся, а сам не плошай, — заметила она не без яду. — Ты не первый, кто тщился одолеть Бабу-Ягу единой верой в правоту своего дела. А вишь, как неладно у них вышло. Так что, ежели любишь свою Марью Моревну, ступай скорей в избушку на курьих ножках, держи ухо востро, а нос-то особливо не задирай.
Птичка покружила над ним и улетела. Может, и обманул Ивана слух, но почудилось ему, что она смеется.
Зато Баба-Яга о смехе и не помышляла. Когда с тропинки лесной донеслась до него отборная брань, он остановился и по совету птички навострил уши. Кобылицы вняли наказу Бабы-Яги и кинулись в озеро, что за лесом, но там настигли их не пчелы, а туча птиц. Как глубоко ни ныряли они, не удалось им увернуться от острых твердых клювов. Уйдут под воду, выплывут воздуху глотнуть, а клювы тут как тут. В конце концов оказались лошади перед выбором: плыть, покуда глаза им не выклюют, пойти на дно иль домой бежать. Ясное дело, они выбрали третье. Позабавился Иван от души, но на подступах к поляне усмешку спрятал. Перед тем как войти в конюшню, еще помешкал, чтобы послушать, какой наказ даст