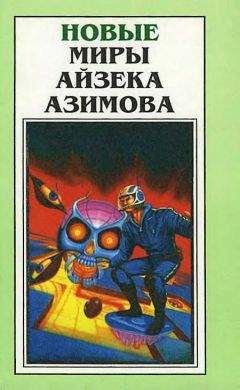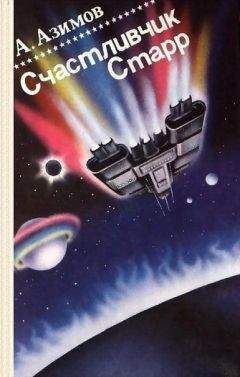Нам потребовалось полчаса, чтобы не только обнаружить в графе «консультанты» Майкрофта Джеймса Боулдера, но и выяснить, что в университете он занимал должность профессора на кафедре философии и что среди его многочисленных достижений числилось свободное владение древнегреческим.
Забавное совпадение — Босс еще не успел надеть шляпу, как внутриконторский телетайп, затрещав, выдал нам, что профессор Боулдер уже два часа сидит в приемной и требует, чтобы его впустили.
Босс отложил шляпу и распахнул перед профессором двери.
Профессор Майкрофт Джеймс Боулдер был серым. Серые глаза, седые волосы, мышиный костюм, а главное — серое от напряжения лицо, изборожденное тонкими морщинами.
— Я уже три дня пытаюсь добиться, чтобы меня выслушали, сэр, — тихо произнес он. — Выше вас мне не удалось пробиться.
— Выше и не надо, — ответил Босс. — Что вам угодно?
— Мне крайне необходимо поговорить с профессором Тайвудом.
— Вы знаете, где он?
— Я абсолютно убежден, что правительство удерживает его.
— Почему?
— Мне известно, что он планировал эксперимент, нарушающий требования секретности. События последних дней, насколько я могу судить, свидетельствуют о том, что секретность была нарушена, откуда естественно вытекает предположение, что опыт был проведен. Меня интересует, был ли он доведен до конца.
— Профессор Боулдер, — проговорил Босс, — вы, как я знаю, владеете древнегреческим.
— Да, — спокойно ответил профессор.
— И вы за счет правительства переводили для профессора Тайвуда учебник по химии?
— Именно, как законно привлеченный консультант.
— Но данное действие, учитывая обстоятельства, является преступным, как пособничество преступлению Тайвуда.
— А какая, простите, связь?
— А разве Тайвуд не рассказывал вам о путешествиях во времени… как он их называл — микротемпоральный перенос?
— А, — Боулдер чуть улыбнулся. — Так он вам рассказал?
— Нет, не рассказал, — отрубил Босс. — Тайвуд мертв.
— Что?!! Я вам не верю.
— Он умер от инсульта. Смотрите.
Босс сунул Боулдеру одну из фотографий, сделанных той ночью. Лицо распростертого на полу Тайвуда искажала гримаса, но не узнать его было нельзя.
Боулдер выдохнул, точно застонали тормоза. Он вглядывался в фотографию полных три минуты — я засек по часам.
— Где сделан снимок? — спросил он.
— На атомной электростанции.
— Так он завершил эксперимент? Босс пожал плечами:
— Нельзя сказать. Мы нашли его уже мертвым. Поджатые губы Боулдера обесцветились.
— Это непременно следует выяснить. Придется собрать комиссию и, если понадобится, провести повторный опыт…
Босс молча посмотрел на него и потянулся за сигарой. Никогда еще процесс раскуривания не занимал у него столько времени.
— Двадцать лет назад, — произнес он, отложив бесполезно дымящую сигару, — Тайвуд написал статью в журнал…
— Ах, это, — губы профессора дернулись, — и дало вам ключ? Забудьте. Тайвуд был физиком и ничего не понимал ни в истории, ни в социологии. Так, мечта школьника, ничего больше.
— Так вы полагаете, что посланный им учебник не приведет к Золотому веку цивилизации?
— Разумеется, нет. Разве можно предполагать, что продукт двух тысячелетий мучительного труда можно внедрить в общество, еще не готовое к этому? Или вам кажется, что великое открытие или изобретение рождается готовым в мозгу гения и не связано с культурной средой, в которой этот гений живет? Ньютон провозгласил свой закон всемирного тяготения на двадцать лет позже, чем мог, потому что тогдашняя оценка радиуса Земли отличалась от реальности на десять процентов. Архимед едва не открыл дифференциальное исчисление, но не сумел, потому что не знал арабских цифр, изобретенных каким-то безвестным индусом!
Если уж говорить об этом, само существование рабства в древних Греции и Риме означало, что машины не могут привлечь внимания, — труд рабов был дешевле и качественнее. А от истинных мудрецов ждали, что они не станут тратить силы на низменные практические приспособления. Даже Архимед, величайший инженер античности, отказывался открывать публике свои технические новшества — только математические абстракции. Когда один юноша спросил Платона, в чем польза геометрии, его с позором изгнали из академии как человека подлого и низменного.
Наука не летит вперед — она продвигается ползком в тех направлениях, куда движут ее те великие силы, что движут общество и, в свою очередь, движимы им. Великие люди стоят на плечах взрастившей их культуры…
Тут Босс перебил его: — Расскажите лучше о своей роли в этой истории. Что историю нельзя изменить, мы поверим вам на слово.
— Почему же нельзя? Можно, но ненамеренно. Понимаете, когда Тайвуд впервые попросил меня о помощи — ему надо было перевести на греческий несколько отрывков текста — я согласился из-за денег. Но профессор Тайвуд требовал, чтобы перевод делался от руки на пергаменте, он требовал, чтобы использовалась только древнегреческая терминология, — язык Платона, как он говорил, — даже если мне при этом придется несколько исказить первоначальный смысл текста.
Меня это озадачило. Я тоже нашел ту статью. Очевидный для вас вывод я сделал довольно поздно — слишком невероятны для скромного философа достижения современной науки. Но в конце концов я узнал правду, и мне стало ясно, как инфантильны представления Тайвуда об истории. На каждое мгновение приходится двадцать миллионов переменных, и не создана еще математическая теория — назовем ее психоисторией, — способная охватить их все.
Проще говоря, любое вмешательство в историю двухтысячелетней давности изменит настоящее — непредсказуемо.
— Как камушек, вызывающий обвал? — обманчиво-негромко поинтересовался Босс.
— Именно. Теперь вы немного понимаете, в каком положении я оказался. Я размышлял неделями и понял, что должен действовать, — и увидел как.
Послышался басистый рык. Босс встал, отшвырнув стул, обошел стол и вцепился Боулдеру в глотку. Я шагнул было, чтобы разнять их, но Босс только отмахнулся. Он всего лишь держал профессора за галстук, и Боулдер мог дышать. Только побелел и все время, пока говорил Босс, дышал очень тихо.
— Да уж, я вижу, что вы нарешали, — говорил Босс — Я знаю, вам, философам тронутым, кажется, что мир всем плох, что стоит бросить кости и глянуть, что получится. Вам, наверное, наплевать, выживете ли вы или узнает ли кто-то о вашей великой роли. Вы все равно рветесь творить. Хотите навязать второй шанс Господу Богу.