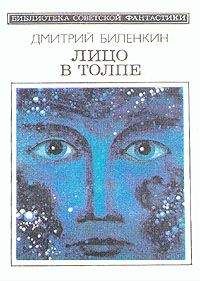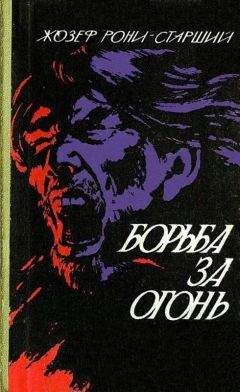Отсутствовали! Абогин зажал рот, чтобы не закричать. Тогда, в детстве, он ниоткуда не мог их вычитать!
Что же происходит?! Он выкрал эти цифры из чьей-то памяти?! А может, не только цифры? Может быть, все, что он сделал в науке, это…
Так он долго сидел и раскачивался, как от боли. Вор, пусть и невольный, — вор?! Канат оборвался, он с вершины летел в пропасть.
В трудную минуту человек либо борется, либо отступает, третьего не дано. Пожалуй, у Абогина все началось не со спорта, а со страха и боли. У него рано стали портиться зубы. Его отвели к врачу, усадили в кресло, и надсадно жужжащий бор врезался в больное дупло. И мальчик тут же потерял сознание. Не от боли: бывает, что и взрослые здоровые мужчины падают в обморок при обычном уколе. Перепуганный врач кое-как привел Игоря в чувство. Попробовали снова рассверлить зуб: Игорь снова потерял сознание.
Вот когда он рассердился на себя, на свое тело! Он потребовал, да, именно потребовал, чтобы его снова отвели к врачу. Вцепившись в подлокотники, жмурясь от беспощадного света рефлектора, он ждал боли, ждал страха, обморочного пота и в ярости приказывал себе: "А ну давай, сволочь! А ну схватимся!.." Он шел навстречу страху и боли, насмерть дрался с тем темным и обморочным, что в нем поднималось…
Не сразу, но он победил себя. Быть может, с этого преодоления все и началось.
И в тот ужасный вечер он не изменил себе. Минутная слабость, не более. Он вскочил. Идти навстречу, только так! Победить, во что бы то ни стало победить то темное, непонятное, что открылось в нем, а может быть, в окружающем мире!
Так Абогин погнал себя к новой вершине, где все было крутизной, неизвестностью, мраком.
И вот окончен подъем…
Абогин подошел к окну, за которым, как прежде, серело и моросило и машины на улицах, ныряя в лужи, обрастали усами брызг.
Дальше-то что"?
В домах напротив зажигался свет, пока еще бледный, не озаряющий проемы, отчего казалось, что глубины квартир семафорят друг другу. Желтый рожок люстры, красный конус торшера, зеленый прямоугольник настольной лампы комнаты, будто флажками, сигналили друг другу о начале вечерней жизни своих обитателей. И где-то там, за окнами, быть может, за тысячекилометровыми пространствами Земли находились те люди, которые невольно для себя рассеивали окрест напряжение своих мыслей… Только он, Абогин, единственный в мире, знал об этой их особенности, такой необычной и, надо полагать, неведомой для них самих.
Теперь знал.
Все люди, как альпинисты в связке, только одни тянут вверх, другие вниз, одни наращивают нить, другие ее рвут. Число, разнообразие таких взаимодействий бесконечно, как бесконечна вселенная людей, лишь наивный или ограниченный ум считает, что сверх известного тут нет ничего. Еще как есть! То, что в конце концов открылось Абогину, возможно, было не самым удивительным, хотя любая телепатия по сравнению с этим выглядела неверным и жалким отблеском истины. Атмосферное электричество незримо, пока не сверкнет молния. А что такое творчество, как не протяженный, миг за мигом все озаряющий разряд мысли? Появись у психологов свой "грозоотметчик Попова", он прежде всего откликнулся бы на эту бурю, а вовсе не на лабораторные попытки угадывания, что задумал или нарисовал другой человек. Нет у психологов даже такого «грозоотметчика», не было его и у Абогина. Ну и что? Человек сам по себе наичувствительнейший инструмент, этим он и воспользовался. Какой-нибудь дистанционный эмоционализатор, может быть, появится лишь в двадцать первом столетии, но и питекантроп прекрасно угадывал чувства других. Кстати: эмоции вроде бы выдает мимика лица, но тогда как мы определяем настроение кошки, чьи мускулы скрыты шерстью? А ведь мы точно знаем, когда она сердится, когда оскорблена или, наоборот, довольна, даже если не шелохнется ни один волосок и щель зрачка остается недвижной.
Был ли Абогин особо восприимчив от рождения, или он так оттренировал свое мышление, что оно превратилось в сверхчуткий инструмент восприятия? Он не подслушивал чужие мысли, тут оказалось иное. Никто никогда не думает в одиночестве, что бы там ни твердил личный опыт. Дарвин разрабатывает свою теорию, а тем временем на другом конце земного шара к тем же выводам приходит Уоллес. Читая статью Лобачевского, Бойяйя в первую минуту не сомневается, что его идею неевклидовой геометрии украли! Есть разобщенные мыслители, но нет одиноких, всякое творчество коллективно в пространстве и времени, и тут, как и везде, неизвестного куда больше, чем познанного.
Для Абогина многое прояснилось: он не подслушивал мысли, он невольно улавливал напряжение работы чужого ума и, уловив, также невольно включался в нее. Возникал эффект сомышления, и какой! Толпа пересекает мост, тот не шелохнется. Стоит, однако, согласовать шаг, войти в резонанс, как он рушится. Вне таблицы умножения дважды два способно стать чем угодно, вот в чем дело!
Эффект сомышления! Постепенно он научился входить в резонанс с чужими мыслями, научился им управлять, то подстраиваясь к неведомому ансамблю, то действуя как организатор и дирижер. Теперь он свободно подключался к разрешению любой проблемы, если… если над ней работали вполне определенные люди. Способные к сомышлению, о чем они сами не догадывались, и, само собой, творческие. Однако далеко не каждый талантливый исследователь, как он убедился, обладал нужным свойством. В той же мере оно было производным какой-то иной способности. Но какой?
Казалось бы, это не имело особого значения. Не у всех есть голос и не все обладатели голоса — певцы, здесь то же самое. Кого это волнует? Никого, если не брать в расчет, что творческий потенциал сомышления, как в том убедился Абогин, во столько же раз превосходил обычный, во сколько раз ядерная энергия мощнее химической.
И ведь к этому шло! В последней четверти двадцатого века уже стал недостаточным прежний уровень творчества, слишком много надвинулось срочных, трудных, грозных проблем, слишком многое зависело от их быстрого и успешного разрешения, — судьба всех. Поэтому усовершенствованием творчества занялись всерьез. Поэтому возник метод "мозгового штурма". Поэтому начался поиск принципов формирования таких исследовательских коллективов, в которых талант отдельных участников не складывался бы, а умножался. И все это было отдаленным приближением к тому, что открылось Абогину.
Мощь сомышления превосходила все известное. Это было восхитительно и ужасно, Абогин похолодел, представив себе возможные последствия. Ведь сама по себе мысль не более чем инструмент, одинаково пригодный для достижения звезд и для всеуничтожения очередной сверхбомбой. А сомышление еще и непознанный инструмент, рычаг, с легкостью готовый свернуть что угодно.