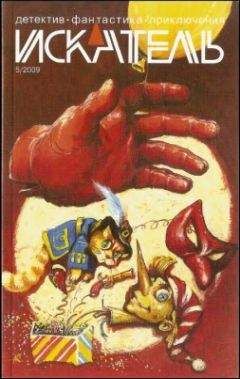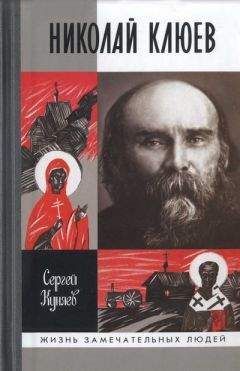И я спешил за огнем, где он выдыхался, помогая ему огнем разгоряченных дюз. С криком я бросался вперед, на бескрайние просторы паркетного дерева, и наносил точечные удары, мгновенно становившиеся глубокими ранами. Шлюпка едва увернулась, на миг отобрав у меня управление, от скального выступа — хоть его не захватил древесный сорняк — и, вернувшись под мой контроль, продолжила наступление. А за мною шла, ширилась огненная черта, разделившая весь простор надвое. От одного края мира до другого.
И не было в те минуты человека счастливее меня. Я кричал что-то, хохоча и рыдая, не в силах выразить радость внезапно обретенной свободы; я вставал с кресла и прыгал в шлюпке — и в такие минуты она тормозила, прижимаясь к земле, а я, снова взяв штурвал, кабрировал, направлял огнь небесный на ненавистное паркетное дерево, сковавшее, подчинившее себе планету — неведомую прежде, но от этого ставшую мне только ближе, только роднее. И в эти минуты не существовало для меня ни вчера, ни завтра, ни того вчера, что осталось на 1834, ни того завтра, что ждало на 2012 или самой Земле. Я был свободен и от прошлого и от будущего, я забыл о нем напрочь, о своей прежней миссии, о работе, о делах, обо всем, даже о спасателях — я был абсолютно свободен. И абсолютно счастлив сей новообретенной свободой, ибо знал, что никогда — ни до, ни после этих минут — ничего подобного у меня не было и не будет. Что паркетное дерево, но только иного рода, сокроет меня, едва только я подам сигнал и найдусь, и все вернется на круги своя. И потому в эти минуты я жадно глотал бесценный воздух, пьянящий, перенасыщенный живительным и все убивающим кислородом, глотал его не раздумывая, позабыв обо всем. К великому счастью, обо всем позабыв.
И лишь когда шлюпка подала сигнал о новой неисправности, я вернулся. Спустился с небес, в чьи безбрежные дали воспарял, в надежде уйти насовсем, отринув все, и никогда уже не вернуться. И, утирая пот, смешанный со слезами утихавшего восторга, посадил свой кораблик на берегу заветного океана. Выбравшись из шлюпки, долго, пока меня не накрыла тьма, стоял у самой воды, на песчаном откосе, среди дюн, до которых не добралось ни паркетное дерево, ни другая растительность, стоял в абсолютном одиночестве, слушая ленивый шорох волн об изрезанные прибоем скалы и вглядывался в затуманенный дымкой уходящего дня горизонт. Смотрел, не в силах оторвать взгляд.
Что-то плеснуло невдалеке, когда солнце скрылось за горизонтом, истаяло в океане, и какой-то меченосец медленно выполз из моря, в поисках своей свободы. Своего нового мира. Но оказалось, все, что было надо ему, — выброшенные прибоем водоросли; добравшись до них, меченосец зарылся в гниющую массу и медленно утащил обратно в забытье. А я, проводив взором морского обитателя, поднял глаза.
И увидел черное, словно бархат, небо. И в самом зените одинокую белую звезду, дрожащую от дуновения легкого бриза, потянувшегося с океанских просторов. Единственная, сияла она посреди черноты космоса, и ни одной вокруг, сколь бы я ни щурился, вглядываясь в темень. Одна, она сверкала в небесах, и от легкого бриза подмигивала мне. И я смотрел на нее, долго, с какой-то безнадежной грустью, пока шлюпка не позвала меня. Но и тогда не сразу отвел взор. И, укладываясь спать, все пытался найти ее — единственную на небе. Одинокую, посылающую лучи в кромешной тьме, оторванную от своих товарок десятками парсек пустого пространства.
Я и во сне видел ее. Будто грелся в нежных теплых лучах. Кажется, словно шептался о чем-то с ней. Что-то говорил. Й долго ждал ответа.
Но, проснувшись, не помнил, был ли мне послан этот ответ. Некоторое время лежал бездвижный, ожидая чего-то. А затем вспомнил о своей миссии. Вышел из шлюпки, последний раз оглядел посуровевшее море, затянутое серой пеленой волн, — резкий ветер дул с дюн, неожиданно холодный; за ночь температура опустилась градусов до двадцати, что даже мне, привыкшему к местному пеклу, казалось непривычно холодно.
Вычислитель сообщил о проходимом в настоящей момент апогее орбиты 2011, так что на календаре планеты давно стоит зима. Стоит ли говорить, какое нас ждет лето. Я так и подумал: «нас» — словно мое намерение остаться тут столь надолго вызрело окончательно.
Впрочем, я не задумывался настолько вперед. Сейчас предо мною стояла иная задача — и в течение последующих нескольких недель я с упорством ее выполнял, методично выпаливая все новые и новые участки паркетного ковра, одерживая над ним верх, а затем уже добивая остатки, превращая прежнего владыку в жалкого беженца, вынужденного искать убежища на дальних островах и в пустынях; только когда весь ковер Гондваны был уничтожен и все ковры на прилегавших крупных островах последовали за ним, я успокоился и оставил в покое дерево, порешив, что за меня с его владычеством лучше разберутся освобожденные.
И так и происходило. Повсеместно на вскрытых огнем участках быстро произрастали задушенные сотнями истекших тысячелетий дерева и кустарники, появлялись неведомые озера и реки, ложбины и холмы, сопки и ущелья. Освобожденный мир открылся мне во всем своем разнообразии, я созерцал его, я путешествовал среди его обнажившихся красот и восхищался ими. И той свободой, что даровал ему и, прежде всего, себе.
А по ночам, когда бои заканчивались и наступало тихое время мира и спокойствия, я оставался один — наедине с той, единственной, что светила мне в бархатной темени небесного полога, с которой говорил и которой рассказывал все. О происшедшем со мной и о том, что мне предстоит, посвящал ее в свои думы и замыслы. Делился самым сокровенным и спрашивал мнения по тем вопросам, которые не мог разрешить сам. И она отвечала мне — своим языком, понятным лишь нам двоим, она отвечала и говорила о вечном под ее сиянием, а я молчал, вглядываясь в зенит, и вслушивался в ее безмолвное мерцание или закрывал глаза и в абсолютной темени внимал незримому трепетанию, исходившему от нее.
Так проходили сутки; они складывались в недели, а те оказывались месяцами. Мне трудно сказать, сколько ночей со мной была моя звезда, мне порой казалось, что всегда, просто прежде я не видел и не слышал ее, и понадобилось вот это путешествие, вот эта катастрофа и попадание на 2011, чтобы очищенный от светил небосвод планеты обнаружил ее, единственную, и открыл ее трепетный, нежный и чуткий язык, осторожно коснувшийся моего сердца и уже не отпускающий. Шепчущую неспешно обо всем на свете, о пустяках и о важном, терпеливо выслушивающую меня и отвечающую на извечные вопросы, что испокон веков люди задавали таким вот одиноким, как и они сами, звездам.
И ответы ее приносили покой и благодать в мое сердце. Как, наверное, и тысячи лет назад другим, таким же как я, вопрошавшим свою единственную звезду и получавшим единственно верный ответ. И с благоговением, с трепетом его принимавшим. Прощающимся в невидимых слезах с единственной перед восходом, но уверенным в следующей встрече, если завтра не помешают ей тучи.