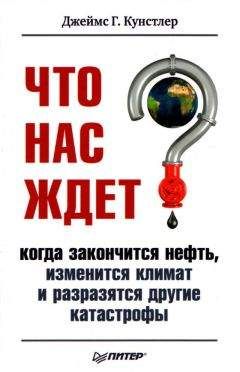Бородатый охнул. Врач повернулся к нему и развел руками — мол, что и говорить, случай крайне тяжелый.
— Все-таки почитайте. Вдруг найдете несоответствия. А завтра мы с вами обменяемся мыслями на это счет. Идет?
Урри подумал. Он начал догадываться, к чему идет. Но ничего не сказал. И так слишком много карт было уже раскрыто.
— Хорошо.
— Вот и хорошо.
* * *
«Таким образом, крушение Евроатлантической Империи и неразрывно связанного с ней Большого Полумесяца не было рукотворным. У этого события имелись глубинные, естественные, объективные причины — и мы должны о них знать. Хотя бы для того, чтобы избежать подобной катастрофы в будущем. Сейчас, когда Эфиопия доминирует на Восточном побережье Африки и продолжает благодатную экспансию на север, запад и юг, мы должны с особенным вниманием изучать историю цивилизаций, занимавших центральные позиции в мире и потерпевших крушение. Зачем — объяснять, думаю, излишне.
Контекст всех крушений одинаков. И он, безусловно, содержал в себе элементы самоубийства. Коллективный разум, постигавший бессмысленность дальнейшего существования — после того, как все возможные цели достигнуты, подвиги совершены, препятствия сокрушены, — неумолимо двигал государства, союзы, общества к катастрофе. Которая, если внимательно вглядеться, всегда имела вид добровольного ухода со сцены для того, чтобы дать другим попробовать свои силы.
Примитивный анализ обычно говорит о массовом помешательстве — будь то нефтяная катастрофа, о которой мы так подробно сегодня говорили, или, скажем, гибель Римской империи, которые мы не раз приводили в пример. Можно вспомнить Древнюю Персию, можно — Советский Союз. Во всех случаях действия как руководителей, так и рядовых граждан кажутся безумными. Безусловно, наращивание производства автомобилей или построение „энергетических сверхдержав“ в период истощения углеводородного топлива представляется поразительно близоруким. Немыслимым кажется параноидальный страх перед спасительным рецептом атомной энергетики — не только испытываемый обывателями, но и культивируемый „лучшими умами“ человечества (каковое эти „лучшие умы“ неизменно отождествляли с „белой костью“ или „солью земли“, бросая людям с другим цветом кожи лишь объедки политкорректных квот). Еще более диким видится тот факт, что грядущая катастрофа, вроде бы осознаваемая теми, кому она грозила в наибольшей степени, становилась не столько предметом приложения коллективных усилий по борьбе с ней, сколько объектом развлечения, всего лишь очередным штампом в торжественном комплекте сюжетов, используемых мастерами „показного дела“.
Однако эти оценки (безумный, близорукий, дикий) основываются на предположении, которое явно не выражается, а потому и прячется от примитивных аналитиков. На предположении о том, что коллективный разум безусловно стремится к продлению существования своего носителя. И только в этом направлении должна работать логика коллективного разума. Любое же отклонение воспринимается как свидетельство коллективного безумия. Предположение это — о безусловном стремлении к выживанию — кажется неочевидным. Зато очевидной выглядит полная невозможность того самого коллективного безумия — по той простой причине, что норму от сумасшествия отличает всего лишь количественная оценка. Нормальной считается точка зрения, разделяемая большинством. А поскольку эта точка зрения, естественно, и воспринимается как коллективная — массовое помешательство становится невозможным просто по определению.
Таким образом, мы пришли к выводу, что коллективный разум всегда нормален. После чего с неизбежностью приходим к выводу о том, что явления вроде упомянутых выше являются всего лишь сознательным для коллективного разума (но почти всегда бессознательным для общества и его отдельных членов) движением к самоубийству.
По той же тропке силлогизмов прошелся и Доминик Ширл, чешский радикальный мыслитель, ставший идейным вдохновителем реально существовавшей группы „Родовспоможение“ (часть деятельности которой — не имеющей никакого отношения к Доулу и Токио — мы привыкли называть „завершающим этапом“ работы группы „Темная ночь“). Впрочем, он не тешил себя надеждой на то, что является творцом истории. Каждое убийство человека, занимающегося работой над тем или иным аспектом нефтяной проблемы, казалось ему всего лишь простым проведением в жизнь исторической воли. „Я делаю это не для них, я делаю это для себя“, — писал Ширл своему ближайшему другу, биатлонисту Свенссону (застрелившему норвежского изобретателя, предложившего суррогатную зажигалку на кишечных газах). „Я иду той же дорогой, что и другие. Но я иду с открытыми глазами“».
Урри остановился, помассировал уставшие (в камере был полумрак) глаза. Нет, его не мучили сомнения. Несоответствий в его книге не было, он знал это твердо. И не настолько дорожил Урри своим текстом, чтобы с наслаждением перечитывать его заново, от корки до корки. Просто его совершенно неожиданно решили испытать одиночеством. Врач солгал. От него Урри такого не ожидал, отчего делалось вдвойне обидно. Прошло уже более суток с того момента, как врач и бородатый ушли. С тех пор Урри не видел ни одного человека. Ему не приносили еду, никто не приходил за парашей (в комнате смердело). Естественно, возникло мерзкое ощущение потери ориентации во времени. Для того чтобы снова найти точку опоры, Урри и стал читать. Помня, что на страницу у него обычно уходит примерно минута. Однако хорошо знакомый текст читался быстрее, и Урри прикинул, что сейчас страница стоит секунд тридцать — сорок. Таким образом он и отмерял время. Иногда делая короткие паузы, чтобы передохнуть. При этом он считал про себя, по возможности старясь придерживаться секундных интервалов.
Урри досчитал до ста, глядя на дверь и покачиваясь в кресле. Он уже собирался продолжить, как за дверью раздались голоса. Сутки тишины (до бесед с собой Урри еще не созрел) обострили слух.
— Послушайте, это смешно! — Урри узнал врача.
— Нельзя, — шепотом, бородатый.
— Я обещал.
— Ничего, он вас простит. У него нету выбора.
Раздались звуки борьбы, что-то стукнуло прямо в дверь камеры. Урри догадался, что бородатый не пускает к нему врача.
— Убери руки!
— Нельзя. Он еще не созрел. Вы его недооцениваете.
Еще одна обида — оказалось, что врач его недооценивает.
— Думаете?
— Уверен.
— И что, до пятницы будем его мурыжить?
— Придется.
— Жаль.
Почему, подумал Урри. Ведь я хотел всего лишь помочь.