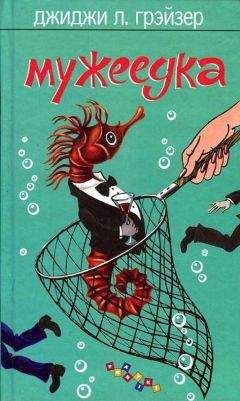Ознакомительная версия.
Джеспер предлагал ей нитку опалов; Роза – золотое колье. Что пойдет больше к черному платью? В самом деле – что? – рассеянно спрашивала себя миссис Рэмзи, оглядывая плечи и шею в зеркале (но минуя лицо). А потом, пока дети рылись в украшениях, она загляделась в окно, на то, что ее всегда веселило: грачи решали, на каком бы им дереве обосноваться. То и дело они меняли решение и снова взлетали, потому что, она думала, старый грач, грач-отец, старик Иосиф она его прозвала, был птичка с привередливым и капризным характером. Весьма полупочтенный старикан, половина перьев повыдергана. Он как старый обшарпанный господин в цилиндре, которого она видела раз, возле пивной; играл на рожке.
– Посмотри! – засмеялась она. Они не на шутку подрались. Иосиф и Мария подрались. Во всяком случае, все они снова взвились, и воздух был сбит на сторону черным сплошным сполохом и весь иссечен такими дивными ятаганчиками. И взбит, взбит, взбит – никогда она не умела описать это точно, так, чтоб самой понравилось. Посмотри! – она сказала Розе, надеясь, что Роза-то отчетливей разглядит. Дети подстегивают иногда твое восприятие.
Но что же выбрать? Они повыдвигали в шкатулке все ящички. Золотое колье – оно итальянское, или опалы, которые привез из Индии дядя Джеймс? Или лучше ей аметисты надеть?
– Выбирайте, миленькие, выбирайте, – говорила она, надеясь, что они поторопятся.
Но пусть уж выберут сами; пусть особенно Роза возьмет то одно, то другое, приложит к черному платью, потому что маленькая церемония выбора украшений, исполняемая каждый вечер, она чувствовала, ужасно нравилась Розе. Почему-то она придавала важность этому выбору украшений для матери. Почему? – гадала миссис Рэмзи, стоя тихо, пока Роза застегивала избранное колье, и откапывая в собственном прошлом глубокое, тайное, бессловесное чувство, какое испытываешь к матери в Розином возрасте. Как все обращенные на тебя чувства, думала миссис Рэмзи, вызывает и это тоску. До чего же мало даешь взамен; до чего же мало соответствует отношение Розы всему тому, что она в действительности собою являет. И Роза вырастет; и Роза, она думала, со своими глубокими чувствами, будет страдать, и она сказала, что готова, надо идти, и Джеспер, раз он джентльмен, пусть благоволит предложить ей руку, а Роза, дама, пусть несет носовой платок (она дала ей платок) и – что еще? Ах да, вдруг будет холодно: шаль. Выбери для меня шаль, – сказала она, чтобы доставить удовольствие обреченной страданиям Розе. Ну вот, – сказала она, останавливаясь у окна на площадке, – они тут как тут. Иосиф устроился на другой кроне. Думаешь, им приятно, – сказала она Джесперу, – когда у них поломаны крылья? За что он хочет застрелить бедных Иосифа и Марию? Он мешкал на ступеньках, понимал, что ему выговаривают, но не серьезно; и она не знала, какое удовольствие – стрелять птиц; и они ничего не чувствуют; и она была – мама, и жила далеко-далеко, в другой части света, но ему нравились ее истории про Марию с Иосифом. Было смешно. Но откуда она знает, что это Мария с Иосифом? Она думает, те же птицы прилетают каждый вечер на те же деревья? – спрашивал он. Но тут, ни с того ни с сего, это со взрослыми вечно, она потеряла к нему всякий интерес. Она прислушивалась к звукам в прихожей.
– Явились! – вскрикнула она и сразу же не облегчение почувствовала, а досаду на них. Потом подумала – свершилось или нет? Сейчас она спустится, и они скажут… Да нет же. Не станут они при всех говорить. Придется спуститься, сесть за ужин и ждать. И, как королева, видя подданных в сборе, снисходит к ним и в молчании принимает их дань, принимает коленопреклоненную преданность (Пол и бровью не повел и смотрел прямо перед собой, когда она проходила) – она сошла вниз и пошла по прихожей, чуть склоня голову, словно принимая то, чего не могли они выразить; дань ее красоте.
Но она остановилась. Пахнуло горелым. Неужто сгубили Boeuf en Daube, – подумала она. Господи, только не это! – но тут прокатился гул гонга, непреложно, властительно вменяя всем, всем, всем, кто разбросан по мансардам, по спальням, по гнездышкам, кто дописывает, дочитывает, наводит последний лоск на прическу, застегивает последнюю пуговицу, – все это бросить, бросить разные разности на умывальниках, и на трюмо, и на ночных столиках книжки, и таинственные свои дневники, и явиться в столовую к ужину.
Но что сделала я со своей жизнью, думала миссис Рэмзи, садясь во главе стола и оглядывая белые круги тарелок на скатерти. Уильям, сядьте со мною рядом, – сказала она. Лили, – сказала она устало, – сюда. Им свое – Полу Рэйли и Минте Дойл – ей свое: бесконечно длинный стол, и ножи, и тарелки. На дальнем конце сидел ее муж, ссутулясь, сгорбясь, и дулся. Из-за чего? Неизвестно. Не важно. Она не постигала, как вообще когда-то могла к нему испытывать привязанность, нежность. Начав разливать суп, она себя ощутила вне всего, ото всего отделенной, отъединенной, как вот когда вихрь несется и кто-то подхвачен им, а кто-то остается вовне – так и она осталась вовне. Все кончено, думала она, пока они входили один за другим, Чарльз Тэнсли («Сюда, пожалуйста», – сказала она), Август Кармайкл, и рассаживались. И в то же время она безучастно ждала, что кто-то ответит ей, что-то случится. Но такое не выскажешь, она думала, разливая суп.
Вздернув брови над этим несоответствием – одно думаешь, а делаешь совершенно другое: разливаешь суп, – она все сильней себя ощущала вне вихря; или – как если б упала тень и вещи, лишась подцветки, ей представились в истинном виде. Комната (она обвела ее взглядом) обшарпана донельзя. Ни в чем никакой красоты. И лучше уж не смотреть на мистера Тэнсли. Никакого слияния. Все сидели разрозненно. И от нее, от нее одной зависело всех их взбить, расплавить и сплавить. Без враждебности, как об очевидном, она снова подумала о несостоятельности мужчин – все она, сами ничего, ничего не умеют, – и она встряхнулась, как встряхивают остановившиеся часы, и затикал знакомый, испытанный пульс: раз, два, три, раз, два, три. И так далее, так далее она отсчитывала еще слабенький пульс, оберегала и охраняла, как спасают зазевавшееся пламя газетой. И тотчас она заключила, с молчаливым кивком обращаясь к Уильяму Бэнксу, – бедняга! Ни жены, ни детей, каждый вечер, кроме сегодняшнего, один ужинает по съемным квартирам; вот – пожалела его и вновь набралась сил выносить свою жизнь; и уже она принималась за дело; так моряк оглядывает не без тоски туго вздувшийся парус, ему и не хочется в море, и он рисует в уме, как пойдет ко дну, и его закрутит, закрутит пучина, и на дне он найдет покой.
– Вы нашли свои письма? Я сказала, чтоб их положили для вас в прихожей, – сказала она Уильяму Бэнксу.
Лили Бриско смотрела, как ее относило на странную ничейную землю, куда не последуешь за человеком, но уход его тебя пронизывает холодком, и ты до конца его провожаешь глазами, как провожаешь глазами тающий парус, покуда он не канет за горизонтом.
Как старо она выглядит, как устало, думала Лили, и как она далеко. Потом, когда она повернулась к Уильяму Бэнксу и улыбнулась, было так, будто корабль повернулся и солнце снова ударило в паруса, и Лили с облегчением, а потому уже не без ехидства, подумала: и зачем его жалеть? Ведь это было ясно, когда она ему говорила про письма в прихожей. Бедный Уильям Бэнкс, казалось, говорила она, с таким видом, будто устала, в частности, и оттого, что жалеет людей, но жалость именно и придает ей решимость жить дальше. А это ведь дичь, думала Лили; одна из тех ее выдумок, которые у нее безотчетны и никому, кроме нее самой, не нужны. Он решительно не предмет для жалости. У него – работа, – сказала себе Лили. И вспомнила вдруг (как клад открывают), что у нее тоже – работа. Перед глазами встала ее картина. Она подумала: да, надо дерево еще продвинуть на середину; так преодолеется глупо зияющее пространство. Вот что надо сделать. Вот что меня мучило. Она взяла солонку и переставила на цветок скатертного узора, чтоб не забыть потом переставить дерево.
– Занятно, что, так редко получая по почте что-нибудь стоящее, мы вечно в ожидании писем, – сказал Уильям Бэнкс.
Что за дикую белиберду они порют? – думал Чарльз Тэнсли, кладя ложку в точности посередине тарелки, которую так вылизал, думала Лили (он сидел напротив, спиной к окну, в точности надвое рассекая вид), будто вознамерился и в пище дойти до сути. Весь он был так выморочно тверд, так безнадежно непривлекателен. И однако факт остается фактом, почти немыслимо плохо относиться к человеку, пока на него смотришь. Ей нравились его глаза; синие, глубоко посаженные, страшноватые.
– Вы часто пишете письма, мистер Тэнсли? – спросила миссис Рэмзи, и его тоже жалеючи, решила Лили; ведь что правда, то правда – миссис Рэмзи всегда жалела мужчин, которым чего-то не дано, и нет чтоб пожалеть женщину, которой дано что-то. Он пишет матери; за этим исключением, хорошо, если письмо в месяц, – отвечал мистер Тэнсли кратко. Он не намеревался пороть ту чушь, к которой его тут призывали. Не желал идти на поводу у глупых женщин. Он читал у себя в комнате и вот спустился, и все тут оказалось поверхностно, глупо, ничтожно. К чему наряжаться? Он спустился в обычной своей одежде. У него и нет выходной. «По почте редко получаешь что-нибудь стоящее» – так у них принято изъясняться. Так вынуждают изъясняться мужчин. А ведь и правда, в сущности, – он подумал. Они из года в год не получают ничего стоящего. Ничего не делают, говорят, говорят, говорят, едят, едят, едят. Всё женщины виноваты. Сводят культуру на нет этим своим «очарованием» – своими глупостями.
Ознакомительная версия.