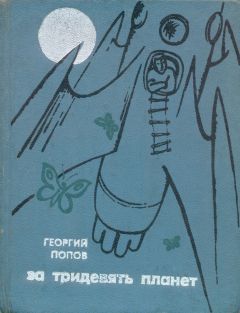Вообще, замечу, наглядная агитация на этой планете удивительно легкомысленная. При входе в РТМ, например, я встретил странный лозунг: «Сеня, жми, а. то догоню и перегоню!» А на бригадном стане (я забыл об этом сказать) стоит красивый фанерный щит с надписью: «Не считай ворон, производительность труда от этого ни у кого не увеличивалась!» Но всех перещеголял конторский пропагандист и агитатор. Представляете, во всю стену лист бумаги и на нем — аршинными буквами: «У председателя тоже одна голова, за всех думать он не в состоянии, поэтому, будь добр, и ты шевели мозгами!» Прямо в духе нашего, земного Шишкина!
И вдруг передо мной открылось не сказать, чтоб обширное, однако и не слишком тесное пространство с гладкими стенами, облицованными ослепительно-белым, малахитово-зеленым и черным камнем. Впечатление было настолько сильное, настолько, можно сказать, потрясающее, что у меня глаза чуть не выкатились из орбит. Ну, думаю, такое и Кащею Бессмертному во сне не снилось.
Я вылез из самоката. Гляжу, один из указателей показывает вправо. На нем написано: «Высотиха»…
Сердце у меня сжалось — так на Земле зовут мою родную деревню… Так, наверно, ее зовут и здесь. Стоит мне свернуть направо, и через час я буду в отчем доме, увижу сестрицу Шарлотту и мать… На Земле я никогда ее не увижу, там она умерла, а здесь… Здесь это еще возможно, подумал я.
Слева виднелись какие-то двери, да не одна, а целая шеренга, пять или шесть, не знаю точно, не считал.
Я подошел к первой, и она распахнулась передо мной.
Это был душ, самый настоящий душ, с раздевалкой и диваном для отдыха. За второй дверью стояли рядком пластмассовые столики и табуретки точь-в-точь такие же, как в столовой. Да это и была столовая, вернее филиал той столовой. Когда я вошел и присел к столику, где-то над головой зазвенел звонок, потом что-то прошуршало, скользя вниз, потом стена раздвинулась, обнажив некий провал, и прямо ко мне шагнула с подносом, на котором стояли тарелки и стаканы, кто бы, думали?.. Настенька, шишкинская пассия!
— Эдя, как ты сюда попал? — не то удивилась, не то испугалась Настенька.
— Очень просто. Ехал, ехал и, вот, приехал, — невесело пошутил я.
— Сумасшедший! Честное слово, сумасшедший!
И в популярной, я бы сказал, общедоступной форме разъяснила, что асфальт этот предназначен для машин дальнего следования. Чтобы такие машины не отравляли воздух бензиновым перегаром и не действовали людям на нервы, под каждым населенным пунктом проложены туннели. Хочешь — проезжай с ветерком не останавливаясь (скорость — 250 км в час), хочешь — задержись, освежись под душем, покушай и отдохни и валяй дальше. Оч-чень удобно, не правда ли?
— Прости, больше не буду! — засмеялся я, глядя на Настеньку. Почему, думаю, она так подробно объясняет мне прописные истины? Может, кое-что знает?
Или догадывается?
Но эти риторические вопросы остались без ответа.
Не успел я сообразить, что все это значит и представляет ли какую-либо опасность, как Настенька опять подхватила поднос, вошла в темный провал, оказавшийся обыкновенным лифтом, какие и у нас на Земле встречаются, и была такова. Ее исчезновение, как и появление, походило на чудо. Во всяком случае, и то и другое показалось мне настоящим чудом.
Остальные двери (я и в них заглянул) вели в спальные номера. Они представляли собой небольшие комнаты, в каждой — две кровати, два столика, два табурета, две лампы и свежие газеты. — чтобы водители, будучи в пути, не отставали от текущих событий. Обслуживающего персонала не было видно. Наверно, и койки заправляются, и газеты доставляются, и порядок поддерживается с помощью автоматов, решил я, и не ошибся. Сашка в тот же день сообщил, что на все это подземное царство-государство один рабочий — он следит за исправностью всевозможных механизмов.
Осмотрев подземные заведения, я вернулся к самокату. Увы, его на месте не оказалось. Я туда, я сюда — нет самоката. «Что за чертовщина, куда он девался?» — подумал я, не зная, что делать. В это время в туннеле, как в трубе, что-то отчаянно загудело и прямо на меня стремительно помчалось какое-то чудовище с боками в клетку. В тот же миг чья-то железная рука схватила меня за шиворот и отбросила в сторону. Когда я встал и огляделся, то увидел в десяти шагах от себя огромный автобус, дышавший выхлопными газами. Из автобуса высыпали люди, это были туристы, и принялись разминаться. Один из них сказал по-иностранному: haben Sie Souvenir? Я ответил, что нет, не haben, вернее — nicht haben, и турист засмеялся.
Побродив и размявшись, туристы тронулись дальше. И тут асфальт раздвинулся и прямо передо мной возник мой самокат. Вот это да, как там, в конторе, подумал я. Оседлав свою машину, я заработал ногами, нажимая на педали. На глаза опять попалась стрелка, указывающая направление в Высотиху. «А почему бы и не съездить, а? Час туда, час обратно…» И я повернул направо. Была не была, думаю, может, и правда, кого увижу. Не Шарлотту, нет — встречаться с нею у меня не было желания, — может, думаю, мать увижу.
А мать — совсем другое дело. Мать на всех планетах остается матерью.
Скоро туннель кончился, и я снова очутился в сосновом лесу. Я гнал изо всех сил и думал, как встречусь с матерью, обниму ее худые плечи, прижмусь к ее груди… Когда асфальт опять пошел вниз и вдали мелькнуло чрево туннеля (другого туннеля, высотихинского), я свернул на обочину, поставил самокат в кустах и дальше пошел пешком. Мне хотелось прийти незамеченным, побыть немного и вернуться обратно. «Мне мать… Мне, главное, мать увидеть…» не переставал размышлять я.
И я вспомнил ее в гробу, в черном платье, со скрещенными на груди восковыми руками. Рядом что-то говорили, кто-то усадил меня на диван, стоявший тут же, в горнице, и поднес стакан воды: «Выпей, выпей!» — и я, кажется, выпил и мало-помалу успокоился. Помню, отец стоял убитый, опустив руки. Шарлотта сжалась в комок и тихонько всхлипывала. В горнице были и еще люди, большей частью незнакомые. Какая-то старушка все норовила поставить в изголовье покойницы свечку, но ей не позволяли, и старушка качала головой и плакала. Как потом я узнал, это была богомольная тетка моей матери.
И еще навсегда отпечаталось в памяти: яркий, как будто отлитый из золота и серебра, осенний день. Золото — это не успевшие облететь листья на березах, а серебро — мелкая изморозь на деревьях, травах, на крышах домов. Гроб несут на руках мужчины — учителя и родители учеников, которые когда-то сами учились у матери. Я иду следом, стараясь не плакать, но это не удается. На кладбище, возле свежевырытой могилы, гроб опускают на землю. Наступает минутная заминка. Потом двое или трое мужчин, — кажется, два учителя и директор совхоза — произносят короткие речи. И я впервые узнаю, что мать приехала в деревню еще девчонкой, сразу после педучилища, и проработала здесь, в этой школе, всю жизнь. Странно, что нам, детям, она никогда не рассказывала о своей Одиссее.