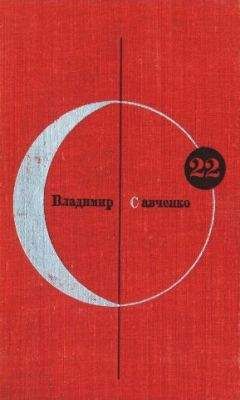Как же так получилось? Как получилось?
Белые столбики вдоль шоссе отражают звук мотора: чак-чак-чак-как получилось? Чак-чак-чак-как получилось? Спидометр показывает сто десять, мелькают серо-зеленые полосы из земли и деревьев. На такой скорости я мог бы уйти от погони, спасти кого-нибудь, приехав вовремя! Но мне не от кого убегать и некого спасать. Мне было кого спасать, но там требовалось честно думать, а не выжимать ручку газа. Честно думать…
Я могу преодолевать различные высоты, стихии, — и усилием мысли и усилием мышц — чего там! Со стихиями ясно, преодолеть их можно. А вот как преодолеть себя?
Сейчас я перелистал дневник — и даже страшно стало: до чего же подла и угодлива моя мысль! Вот я рассуждаю о том, что беды людей происходят от их беспринципности, от того, что считают «свою хату с краю», а через несколько страниц я ловко обосновываю расположение своей «хаты с краю»: не надо заводиться с Гарри Хилобоком, пусть делает свою докторскую диссертацию… Вот я размышляю о том, как сделать, чтобы из открытия получилось «хорошо», а вот я призываю себя к жестокости со ссылками на убийства в мире… Вот я (или мы с дублем-аспирантом, все равно) принижаю себя до уровня заурядного инженера, которому трудно и непривычно вести такую работу — моральная перестраховочка на случай, если не выйдет; а вот, когда стало получаться, я равняю себя с богом… И все это я писал искренне, не замечал никаких противоречий.
Не замечал? Не хотел замечать! Так было приятно и удобно: красоваться, лгать самому себе от чистого сердца, приспосабливать идеи и факты к своему душевному комфорту. Выходит, думал-то я в основном не о человечестве, а о самом себе? Выходит, эта работа, если оценить ее не с научной, а с моральной стороны, была просто незаурядным пижонством? Конечно, где уж тут заботиться о каких-то экспериментальных образцах!
Что же ты за человек, Кривошеин?»
«22 сентября. Не работаю. Нельзя мне сейчас работать… Сегодня съездил на мотоцикле в Бердичев непонятно зачем и, кстати, понял смысл таинственной фразы, что когда-то выдали печатающие автоматы. Двадцать шесть копеек — это цена заправки: пять литров бензина, двести граммов масла — ее как раз хватает от Бердичева до Днепровска… Раскрыл еще одну «тайну»!
Где-то сейчас дубль Адам, куда уехал?
…И это существо, которое машина пыталась выдать сразу после первого дубля: полу-Лена, полу-я… Оно наверно, тоже пережило ужас смерти, когда мы приказали «машине-матке» растворить его? И батя… О черт! Зачем я думаю об этом?
Батя… последний казак из рода Кривошеиных. По семейному преданию, прадеды мои происходят из Запорожской Сечи. Жил когда-то казак лихой, повредили ему шею в бою — вот и пошли Кривошеины. Когда императрица Катька разогнала Сечь, они переселились в Заволжье. Дед мой Карп Васильевич избил попа и станового пристава, когда те решили упразднить в селе земскую школу, а вместо нее завести церковноприходскую. Я понятия не имею, какая между ними разница, но помер дед на каторге.
Батя участвовал на всех революциях, в гражданскую воевал у Чапаева ротным.
Последнюю войну он воевал стариком, лишь первые два года. Отступал по Украине, вывел свой батальон из окружения под Харьковом. Потом по причине ранения и нестроевого возраста его перевели в тыл, в Зауралье военкомом. Там, в станице, он, солдат и крестьянин, учил меня ездить верхом, обхаживать и запрягать лошадей, пахать, косить, стрелять из винтовки и пистолета, копать землю, рубить тальник осоавиахимовской саблей; заставлял и кур резать и свинью колоть плоским штыком под правую лопатку, чтоб крови не боялся. «В жизни пригодится, сынок!»
…Незадолго до его кончины ездили мы с ним на его родину в Мироновку, к двоюродному брату Егору Степановичу Кривошеину. Когда сидели в избе, выпивали по случаю встречи, примчался внучонок деда Егора:
— Деда, а в Овечьей балке, где плотину ставят, шкилет из глины вырыли!
— В Овечьей? — переспросил батя. Старики переглянулись. — А ну пошли посмотрим…
Толпа рабочих и любопытствующих расступилась, давая дорогу двум грузно шагавшим дедам. Серые трухлявые кости были сложены кучей. Отец потыкал палкой череп — тот перевернулся, показал дыру над правым виском.
— Моя! — батя победно поглядел на Егора Степановича. — А ты, значит, промазал, руки тряслись?
— Почем ты знаешь, что твоя?! — оскорбленно задрал бороду, тот.
— Ну, разве забыл? Он ведь в село возвращался. Я по правую сторону дороги лежал, ты — по левую… — и батя для убедительности вычертил палкой на глине схему.
— Это чьи же останки, старики? — строго спросил моложавый прораб в щегольском комбинезоне.
— Есаула, — сощурившись, объяснил батя. — В первую революцию уральские казачки в нашем селе квартировали — так это ихний есаул. Ты уж милицию не тревожь, сынок. Замнем за давностью лет.
…Как это было славно: лежать в ночной степи за селом с отцовской берданкой, поджидать есаула — как за идею, так и за то, что он, сволочь, мужиков нагайкой порол, девок на гумно возил! Или лететь на коне, чувствуя тяжесть шашки в руке, примериваться: рубануть вон того, бородатого, от погона наискось!
А я последний раз дрался лет восемнадцать назад, да и то не до победы, а до звонка на урок. И на коне не скакал с зауральских времен. Всей моей удали — обгоны на мотоцикле при встречном транспорте.
Не боюсь я, батя, ни крови, ни смерти. Только не пригодилась мне твоя простая наука. Теперь революция продолжается другими средствами, открытия и изобретения — оружие посерьезней сабель. И боюсь я, батя, ошибиться…
Врешь! Врешь! Снова красуешься перед собой, пижон, подонок! Неистребимое стремление к пижонству… Ах, как красиво написано: «Боюсь я, батя, ошибиться» и про революцию. Не смей об этом!
Ты намеревался синтезировать в людях (да, в людях, а не в искусственных дублях!) благородство души, которого в тебе нет; красоту, которой у тебя нет; решительность поступков, которой ты не обладаешь; самоотверженность, о которой ты понятия не имеешь…
Ты из хорошей семьи; твои предки умели и работать и отстаивать правое дело, бить гадов: когда кулаком, когда из берданки, спуску не давали… А что есть ты? Выступал ли ты за справедливость? Ах, не было подходящего случая? А не избегал ли ты — умненько и осторожно — таких случаев? Что, неохота вспоминать?
То-то и есть, что я всего боюсь: жизни, людей. Даже Лену я люблю как-то трусливо: боюсь приблизить — боюсь и потерять. И, боже упаси, чтобы не было детей. Дети усложняют жизнь…
А то, что я таюсь со своим открытием, — разве не из боязни, что я не смогу отстоять правильное развитие его? И ведь верно: не смогу… Я слабак. Из породы тех умных слабаков, которым лучше не быть умными. Потому что ум им дан только для того, чтобы понимать свое падение и бессилие…»